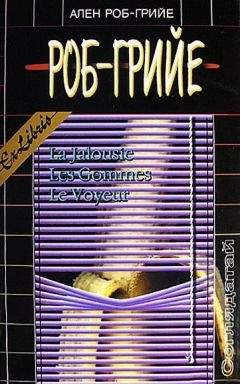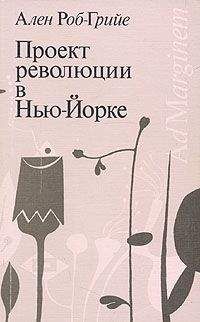– Ну что ж, – говорит женщина, – если вам не к спеху, то вон там – почта, которая открывается в восемь.
Вот что бывает, когда сочиняешь небылицы. Кому он может слать телеграмму и с каким сообщением? И где теперь найти путь к отступлению? Вид у него недовольный, и женщина, заметив это, добавляет:
– Есть еще почта на проспекте Кристиана-Шарля, не знаю, правда, открывают ли там раньше, чем всюду, но пока вы туда дойдете…
Теперь она внимательно смотрит на него, словно оценивая его шансы достигнуть цели до восьми утра; потом отводит глаза и снова принимается разглядывать швабру. С одного боку она растрепалась, вылезают волоски. Наконец она оглашает результат обследования:
– Вы нездешний, месье?
– Верно, – с сожалением признает Уоллес, – я только недавно приехал. Покажите мне дорогу к центру, я разберусь.
Центр? Женщина пытается определить в уме его местоположение; она смотрит на швабру, потом на ведро с водой. Она поворачивается к углу улицы Жанека и указывает в том направлении, откуда пришел Уоллес.
– Идите по той улице. Перейдете канал, свернете на Берлинскую и выйдете на площадь Префектуры. А потом – все время прямо.
Префектура: вот что надо было спрашивать.
– Благодарю вас, мадам.
– Знаете, это не так близко. Вы лучше сядьте на трамвай, вон там…
– Нет-нет, я пойду быстро, это мне поможет согреться! Благодарю вас, мадам.
– Не за что, месье.
Она окунает швабру в ведро и снова принимается мыть асфальт. Уоллес продолжает путь в обратном направлении.
Умиротворяющее развертывание ткани восстановлено. Сейчас служащие выходят из домов, несут портфель из искусственной кожи, а в нем три традиционных бутерброда, чтобы перекусить в полдень. Ступив за порог дома, они поднимают глаза к небу и уходят, покрепче затянув вокруг шеи коричневый вязаный шарф.
Лицом Уоллес чувствует холод; время колючей стужи, от которой лицо теряет подвижность и превращается в страдальческую маску, еще не пришло, но уже начинаешь ощущать нечто вроде сжатия: лоб становится ниже, корни волос сближаются с бровями, виски стремятся друг к другу, мозг съеживается в небольшую припухлость между глаз, чуть выше носа. Но чувства отнюдь не притупились: Уоллес – по-прежнему внимательный свидетель зрелища, которое вполне сохранило свою упорядоченность и неизменность; быть может, линия даже стала ложиться точнее, мало-помалу избавляясь от вялости и украшательства. Возможно, впрочем, что эта точность – лишь иллюзия, порожденная пустотой в желудке.
Сзади слышится приближающийся рокот дизельного мотора… вибрация целиком заполняет голову. Затем его обгоняет тяжелый грузовик в облаке удушливого дыма.
У белого шлагбаума перед разведенным мостом стоит в ожидании человек с велосипедом. Уоллес останавливается рядом с ним и тоже принимается изучать настил моста с нижней стороны, которая постепенно скрывается из виду. Как только становится видна верхняя сторона настила, велосипедист открывает дверцу и вкатывает за шлагбаум переднее колесо. Он оборачивается к Уоллесу.
– Что-то нежарко сегодня, – говорит он.
– Да уж, – отвечает Уоллес, – началось!
– Похоже, скоро снег пойдет.
– Было бы странно, все-таки ему еще не время.
– А я не удивлюсь, – говорит велосипедист.
Оба они смотрят на стальную закраину моста, который плавно опускается вровень с улицей. Когда мост становится на место, шум внезапно прекращается; в наступившей тишине раздается звонок, означающий, что проезд открыт. Выходя с велосипедом за дверцу, велосипедист повторяет.
– Я не удивлюсь.
– Может, и так, – говорит Уоллес – Удачи вам!
– Прощайте, месье, – отвечает велосипедист.
Он садится на велосипед и уезжает. Неужели действительно пойдет снег? В сущности, сейчас не так уж и холодно; просто резкая перемена погоды застала всех врасплох. Дойдя до середины моста, Уоллес смотрит, как человек в темно-синем кителе идет поднимать шлагбаум.
– Уже возвращаетесь, месье?
– Да, – отвечает Уоллес, – как раз успел, пока вы разводили мост. Префектура – это там, верно?
Человек в кителе смотрит на него вполоборота. «Успел что?» – думает он. И говорит:
– Да, конечно, это там. Идите по Берлинской улице, так быстрее.
– Спасибо, месье.
– Хорошей прогулки, месье.
Почему бы не сделать шлагбаум автоматическим и не управлять им с той стороны? Теперь Уоллес видит, что улица Жанека не совсем прямая, она неприметными изгибами отклоняется к югу. На дорожном знаке, изображающем двух детей с ранцами за спиной, которые держатся за руки, видны остатки бабочки, ее приклеили за крылья, а потом оторвали. За двойными воротами – «Школа для девочек. Школа для мальчиков» – начинается стена, скрывающая от глаз школьный двор, обсаженный каштанами, усыпанный желтыми листьями и полопавшейся зеленой кожурой; мальчики старательно подобрали блестящие каштаны, ведь они так нужны для игр и всевозможных поделок. Уоллес переходит улицу, чтобы прочесть названия улиц, которые отходят влево.
На одном из перекрестков Уоллес замечает господина с несварением, которого видел недавно; он переходит улицу. После завтрака он не стал выглядеть лучше; быть может, дело вовсе не в больном желудке, этого человека что-то тревожит. (Он похож на Фабиуса!) Он в черном: идет на почту давать телеграмму с извещением о смерти.
– А, так вам нужно дать телеграмму! Надеюсь, ничего серьезного?
– Извещение о смерти, мадам.
Печальный господин проходит мимо Уоллеса и сворачивает на поперечную улицу; «Берлинская улица». Уоллес идет за ним.
Очевидно, утром он должен был свернуть гораздо раньше, если судить по направлению этой улицы. Черная спина движется с той же скоростью, что Уоллес, и показывает ему дорогу.
Человек в черном плаще переходит на левую сторону и сворачивает в узенькую улочку. Уоллес теряет его из виду. Жаль, он был хорошим попутчиком. Значит, он шел не на почту, не собирался давать телеграмму, если только не выбрал какой-то известный ему более короткий путь на проспект Кристиана-Шарля. Ну и пускай, Уоллес больше любит ходить по широким улицам, и вообще ему нечего делать на почте.
Наверно, было бы проще сразу сказать этой женщине, что ему хочется пройтись по главным улицам города, куда он попал впервые; но вдруг бы он проговорился о своей первой, давней поездке? – озаренные солнцем узкие улочки, по которым он ходил с матерью, отрезок канала между невысокими домами, остов заброшенного корабля, какая-то родственница (сестра матери или ее сводная сестра), с которой они должны были встретиться, – нахлынули бы воспоминания детства, и он бы выдал себя. Назваться туристом он тоже не мог: в городе, где нет ничего привлекательного для любителя искусства, да еще в такое время года, это не только прозвучало бы совершенно неправдоподобно, но и могло бы навлечь на него еще большую опасность: куда бы она завела его своими расспросами, если даже в разговоре о почте, чтобы уйти от объяснений и подтвердить ее догадки, он с ходу сочинил про телеграмму? Кто знает, в какие вымышленные авантюры его могут втянуть из-за того, что он старается быть любезным и не привлекать к себе внимания!
– Вы нездешний, месье?
– Нет, я полицейский, приехал сюда вчера вечером, чтобы расследовать политическое убийство.
Это было невероятнее всего остального. «Агент спецслужбы, – любит повторять Фабиус, – должен оставлять как можно меньше следов в умах людей; поэтому важно, чтобы в любых обстоятельствах его поведение не выходило за рамки обычного». И в Бюро расследований, и в министерстве все знали карикатуру, на которой был изображен Фабиус, замаскированный под «беззаботного прохожего»: надвинутая на глаза шляпа, большие черные очки и свисающая до земли, явно фальшивая борода; согнувшись пополам, он «незаметно» крадется в чистом поле, среди удивленных коров.
За этой озорной картинкой скрывается неподдельное восхищение, которое на самом деле испытывают перед стариком его подчиненные. «Он очень сдал», – удовлетворенно скажут вам его враги; но те, кто работает с ним изо дня в день, знают, что, несмотря на необъяснимые приступы упрямства, прославленный Фабиус все еще достоин своей легенды. Однако даже верные почитатели иногда ставят ему в вину не только привязанность к устаревшим методам, но и некую нерешительность, преувеличенную осторожность, которая заставляет его ставить под сомнение даже самые бесспорные данные. Чутье, позволявшее ему находить малейшую лазейку в сложной ситуации, азарт, увлекавший его к самому сердцу загадки, наконец, неистощимое терпение, с каким он распутывал обнаруженные им нити, – все это порой словно вырождается в мертвящий скептицизм маньяка. Раньше поговаривали, будто он не доверяет простым решениям, а теперь намекают, что он перестал верить в возможность какого-либо решения вообще.