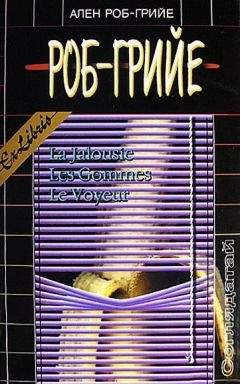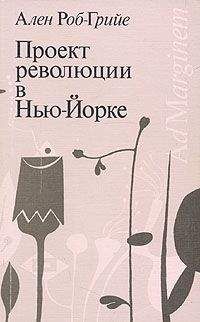А Уоллес думает, что на улице нежарко и, должно быть, приятно поразмяться, катя по гладкому асфальту в потоке велосипедистов; но он так и стоит, держась за железные перила. Люди один за другим поворачивают головы в его сторону. Он поправляет шарф и застегивает воротник плаща. Головы поочередно поворачиваются к нему, затем исчезают. Сегодня ему не удалось позавтракать: в бистро, где он снял комнату, до восьми утра кофе не подают. Машинально взглянув на часы, он замечает, что они так и не завелись; часы остановились вчера вечером, в половине восьмого, что не облегчило ему дел с поездкой и всем остальным. Бывает, что его часы остановятся без всякой причины – иногда от удара, но необязательно – и сами по себе начинают тикать снова, опять-таки непонятно почему. С виду в них ничего не сломано, они могут идти несколько недель подряд. Они просто капризничают; вначале это несколько мешает, а потом привыкаешь. Сейчас, должно быть, половина седьмого. Постучит ли хозяин в дверь, как обещал? На всякий случай Уоллес завел маленький будильник, который из предосторожности брал с собой, и в результате проснулся даже немного раньше: раз уж он не спит, надо сразу браться за дело. Сейчас он один, как будто поток велосипедистов увлек его за собой и бросил по дороге. Перед ним в тусклом желтом свете виднеется улица, по которой он вышел на бульвар; слева, на углу – красивый шестиэтажный дом, а напротив – кирпичный домик, окруженный небольшим садом. Вчера в этом доме Даниэля Дюпона убили выстрелом в грудь. Пока Уоллес больше ничего не знает.
Накануне поздно ночью он приехал в этот город, который едва знает. Однажды он уже приезжал сюда, но всего на несколько часов, тогда он был ребенком и ничего толком не запомнил. Кроме одного пейзажа: канал, заканчивающийся тупиком; у берега – старое, заброшенное судно – остов парусника? Вход в канал преграждает очень низкий каменный мост. Наверно, на самом деле было не совсем так: судно не могло бы пройти под этим мостом. Уоллес продолжает путь в глубь города.
Перейдя канал, он останавливается, чтобы пропустить трамвай, который возвращается из порта. Свежевыкрашенный трамвай, красно-желтый с золотым гербом, так и сверкает; он совсем пустой – все едут в другую сторону. Трамвай тоже останавливается, и его металлическая подножка оказывается как раз перед Уоллесом; тогда Уоллес замечает рядом табличку, установленную под газовым рожком, с надписью: «Остановка трамвая» и цифрой шесть – номером маршрута. Раздается звонок, и трамвай, поскрипывая, медленно катит дальше. По-видимому, он закончил смену. Вчера вечером, у вокзала, в трамвае было столько народу, что ему так и не удалось взять билет; контролер не мог пробраться через проход, заставленный чемоданами. Он с трудом добился от пассажиров, на какой остановке надо сойти, чтобы попасть на улицу Землемеров; по-видимому, большинство из них никогда на слышали о такой улице. Кое-кто сказал даже, будто она совсем не в этом направлении. Ему пришлось довольно долго шагать по скудно освещенному бульвару, и когда он нашел наконец нужный перекресток, то заметил еще не закрывшееся кафе, где ему сдали комнату, не слишком удобную, разумеется, но вполне сносную. Можно считать, ему повезло, ведь отыскать в этом малолюдном квартале гостиницу было бы нелегким делом. На застекленной двери эмалевой краской было выведено: «Сдаются комнаты», однако хозяин помедлил, прежде чем ответить на вопрос; похоже, он был чем-то недоволен или просто не в настроении. Перейдя бульвар, Уоллес сворачивает на улицу с торцовой мостовой, очевидно, ведущую к центру. На синей табличке написано: «Брабантская улица». Перед отъездом Уоллес не успел раздобыть план города; он рассчитывает сделать это сегодня, как только откроются магазины, а время, оставшееся до восьми часов, когда обычно начинают работу в полицейских участках, он использует для того, чтобы немного сориентироваться в лабиринте улиц. Вот эту улицу, хоть и узкую, стоит запомнить: она вроде бы длинная, ее конец сливается вдали с серым небом. Небо по-настоящему зимнее; похоже, сейчас пойдет снег.
По обеим сторонам стоят кирпичные дома одинаково упрощенной архитектуры, без балконов, без карнизов, без каких-либо иных украшений. Только самое необходимое: гладкие стены, прорезанные прямоугольными отверстиями; в этом ощущается не бедность, а лишь труд и бережливость. Впрочем, по большей части дома эти заняты торговыми конторами.
Строгие фасады, тщательно выложенные некрупным темно-красным кирпичом, надежные, однообразные, терпеливые: грошик от» Компании хвойной древесины», грошик от «Луи Швоба, Экспорта леса», «Марка и Ленглера» или акционерного общества «Борекс». Экспорт леса, хвойная древесина, древесина для промышленных нужд, экспорт хвойной древесины: весь квартал занят этой коммерцией; миллионы гектаров сосновых лесов уложены в кирпичи, чтобы было где хранить толстые счетные книги. Все дома построены по одной модели: пять ступенек ведут к массивной лакированной двери, обрамленной черными табличками, на которых золотыми буквами написано название фирмы; два окна слева от двери, одно справа, а над ними – четыре этажа таких же окон. Может быть, помимо контор здесь есть еще и квартиры? По крайней мере, снаружи это определить нельзя. Заспанным служащим, которые через час наводнят эту улицу, несмотря на привычку, нелегко будет узнать свою дверь; а что, если они войдут в первую попавшуюся и займутся экспортом древесины Луи Швоба или Марка и Ленглера? Не важно, ведь главное – трудиться на совесть, чтобы кирпичики укладывались в ряды, словно цифры в счетных книгах, надстраивая здание на еще один этаж из монеток: еще несколько сотен тонн счетов и деловых писем; «Господа, в ответ на ваше письмо от…», оплата наличными, по сосне за пять кирпичей.
Эта вереница прерывается лишь на перекрестке перпендикулярных улиц, абсолютно одинаковых, оставляющих свободным ровно столько пространства, чтобы можно было пробраться между кипами бумаг и арифмометрами.
Но вот более глубокая выемка, прорытая водой в многодневной терракотовой толще; вдоль набережной дома тянутся оборонительной линией, отверстия в них инстинктивно становятся более близорукими, а крепостные стены более толстыми. Посредине этой поперечной улицы течет канал, кажущийся неподвижным, прямолинейный коридор, в который люди отвели воду озера, чтобы груженные лесом баржи медленно плыли к порту; а еще здесь, спасаясь от духоты осушенных почв, находит себе последнее убежище ночь, бездонная, дремлющая серо-зеленая вода, которая смешивается с волнами прилива и кишит невидимыми чудищами.
Там, за фарватерами и дамбами, в океане ярится свистящий рой химер, а здесь эти вихри отдыхают между двумя надежными стенами. И все же надо быть осторожным и не слишком наклоняться над водой, если не хочешь, чтобы они всосали тебя…
Но вскоре опять начинаются ряды кирпичных домов. «Улица Жозефа Жанека». На самом деле это все та же улица, продолжающаяся по ту сторону канала: та же суровость, то же расположение окон, те же двери, те же таблички из черного стекла с теми же надписями. «Зильберман и Сын, экспорт древесной массы, капитал – два миллиона двести тысяч, склад: набережная Сен-Виктор, четыре-шесть». Грузовой причал, аккуратные штабеля бревен за портальными кранами, на заднем плане – металлические ангары, пахнет мазутом и смолой. Набережная Сен-Виктор должна быть где-то там, в северо-западном направлении.
За перекрестком пейзаж немного меняется: ночной звонок у двери врача, несколько магазинов, не такая однообразная архитектура, – все это придает здешним местам более жилой облик. Какая-то улица отходит вправо под более острым углом, чем предыдущие; может быть, стоит свернуть на нее? Нет, лучше идти по этой до конца, а свернуть он успеет и потом.
Над землей стелется слабый запах дыма. Вывеска сапожника; слово «Продукты», написанное желтыми буквами на коричневом фоне. Хотя сцена по-прежнему пуста, ощущение человеческого присутствия постепенно нарастает. Вот в первом этаже на занавесках вышит аллегорический сюжет: пастухи находят брошенного ребенка или что-то в этом роде. Молочная, бакалейная лавка, колбасная лавка, еще одна бакалейная; сейчас видны только их закрытые железные ставни, в середине которых вырезан красивый ажурный узор величиной с тарелку, вроде тех, что дети вырезают из сложенной бумаги. Магазинчики маленькие, но опрятные, ухоженные, многие фасады недавно выкрашены; почти все они торгуют едой: темно-желтая булочная, голубая молочная, белоснежная рыбная лавка. Друг от друга они отличаются лишь цветом и надписью над входом.
Вот опять открытые ставни и дешевые занавески с вышивкой: под деревом два пастуха в античных одеяниях поят овечьим молоком голого младенца.
Уоллес продолжает путь все тем же твердым, упругим шагом, одинокая фигура на фоне закрытых ставень, у подножия кирпичных домов. Он шагает. Жизнь вокруг него еще не началась. Только что, на бульваре, навстречу ему проехала на велосипедах в сторону порта первая группа рабочих, но больше он никого не встретил: служащие, коммерсанты, матери семейств, школьники – все они еще не подавали голоса, не показывались из своих запертых домов. Велосипедисты исчезли, и начатый ими день вернулся на несколько движений назад, подобно спящему, который, протянув руку и выключив будильник, дает себе несколько минут отсрочки перед тем, как проснуться по-настоящему. Через секунду веки поднимутся, город стряхнет с себя мнимый сон, мигом вольется в ритм порта, и когда разрешится этот диссонанс, время для всех начнет одинаковый отсчет.