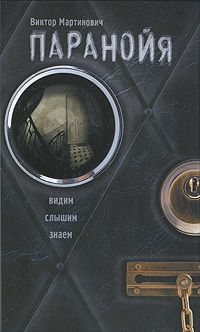И стало холодно, и нужно было в тепло, и конечно же, они пошли домой — куда еще им было идти? Разве могли они теперь, после Пиренеев и сфинксов, после уток и пеликанов, после бегунов — разойтись в разные стороны? Они ведь теперь даже в реке вместе не отражались! А в лужах — в лужах отражались, и в этих отражениях ее голова лежала у него на плече, и волосы щекотали подбородок, ну как же им теперь было расходиться? Как же могли они расстаться, если отбрасывали по четыре тени в фонарном свете, если вон какая луна встала, если у нее плащ порван? Она вела его куда–то в сторону улицы Маркса&Спенсера, а он отмечал, как все изменилось за сутки, — вокруг было полно глаз, тех самых, глядящих в самую глубину глаз, — так смотрели на них парочки, так смотрели семьи с детьми, и только редкие одиночки, кутающиеся в шарфы и прячущие замерзшие руки поглубже в карманы, обдавали ледяными, пронзительными взглядами. И Анатолий понял, что вчера дело, конечно, было в нем самом — в нем самом, а не в окружающих. Он был таким же мятущимся одиночкой, требующим к себе любви, внимания, требующим видеть в себе человека, живое, думающее и страдающее существо, но — не заслуживающим этого, а сейчас ему этого всего уже не нужно, но, судя по тому, что на него смотрят именно так, как надо, — он изменился, очеловечился, притягивал тепло и излучал его, и он попытался высказать все это ей, но не смог, сбился, только поблагодарил — за ее глаза, да добавил, что любого человека можно познать по глазам все те подлости и все то добро, на которые тот способен. И что она разбудила его глаза, смотревшие не так и не туда, и теперь… Но они уже свернули во дворик — прямо напротив кафе «Шахматы» и подошли к малоприметному подъезду, и поднялись на третий этаж, проделав долгий подъем, предполагавший как минимум этаж пятый. Она достала огромную связку ключей (зачем ей столько?) и некоторое время крутила их в железной двери с той же скоростью, с какой он там, на теплоходе, крутил штурвал. И это — прекрасно, подумал Анатолий, ибо означает, что папы–гэбэшника дома нет и не придется, натужно улыбаясь, пробираться бочком в ее комнату, стараясь не здороваться, не касаться протянутой руки…
Она отступила и картинным жестом, похожая на эльфийскую принцессу, пригласила его в сказочный лес. Прихожая, еще допускавшая случайные глаза — соседей, сантехников, работников ЖЭСа — всех тех людей, которых можно не пустить дальше порога, — еще сдерживалась, еще была обставлена просто как картинка из люксового журнала по интерьеру. Рококо, перемешанное с модерном в тончайшую смесь, требующую не только уймы вкуса, но и огромных денег. Здесь был пуфик, на который полагалось садиться (задницей! Задницей садиться — какое кощунство!), снимая и надевая обувь. Пуфик, в котором Гауди сплетался в танце с версальским дворцом, — огромные лилии на его ножках были вырезаны вручную, а асимметричный пион, поднимавшийся сзади во взрыве из раскинувших пальцы листьев, оказался съемной ложечкой, которую хотелось положить под стекло, а не трогать, и уж тем более ногами (один носок оказался надет шиворот–навыворот, отчего ступня стала похожей на морду молодого сома, на пальце второго — в том месте, которое никак не скрыть, — явственная дырка, через которую корчит рожи ноготь). Прихожая упиралась в двустворчатую дверь с наборным витражом, изображавшим нечто перетекавшее, растительное, вьющееся — ар нуво, а у него дырка на носке. Но витражные двери быстро распахнулись — она делала все это стыдливо, без намека на бахвальство, с видимым желанием максимально свернуть экскурсию и исключить любые похвалы. Зажегся свет в гостиной, и тут — как он ни сдерживал себя, как ни понимал, что она не хочет слышать возгласов — никаких возгласов — у него вырвался «ох» удивления. Дело в том, что там, дальше, за прихожей, был дворец. Средней руки, не самый роскошный, где–то даже строгий, без излишеств, свойственных растреллиевскому барокко, но — дворец. Мебель — овальный стол с букетом свежих, тяжелых цветов в вазе, кресла, небрежно стоящие у стола, зеркало в тонкой, вьющейся раме — все это было века восемнадцатого, продолжая начатую в прихожей французскую тему. Гарнитур был белым, с тончайшими прикосновениями золота, стены решены в белом цвете, с золотыми виньетками, мрамор пола частично прикрыт ковром, тоже — желтовато–белым. Даже люстра, сработанная, кажется, из сплошного хрусталя, без единого металлического крепления, — люстра, свисавшая с пятиметрового потолка почти до самого стола, люстра, весившая, наверное, тонну, — даже она была переливчато–белоснежной. У окна, забранного свешивающимися до пола шелками штор, стоял лакированный рояль явно позапрошлого века, и удивительно было, что в старину делали такие вот белые, как облако, инструменты.
Она так и стояла, посреди зала, растерянная, не знающая, что теперь с этим всем делать, как вписать их двоих в этот интерьер. На стене висела хорошая копия «Вакханалии» Алессандро Маньяско, а может быть, и сам оригинал. Анатолию срочно нужно было в туалет — переодеть вывернутый наизнанку носок и немножко Прийти в себя, и он спросил — одними бровями, и она неопределенно махнула рукой в сторону коридора, уводившего из залы вправо, словно бы и сама не помнила точно, как найти этот самый туалет. Он шел очень долго, кое–где ему удавалось включать свет, он заглядывал в голубые, розовые, охристые комнаты, где стояли нетронутые кровати, письменные столы, библиотеки, проходил сквозь залы поменьше, видел кухню — обычную современную кухню, с синими шкафчиками из поливинила, смотревшуюся мозаичной психопатией среди окружавших ее сплошных французских слов, и боковые двери все сплошь оказывались новыми коридорами, и вот, наконец, — нашел, с латунным краном и ванной, стоявшей прямо посреди комнаты, и быстро переоделся, и сбрызнул лицо ледяной водой, и сказал зеркалу вполголоса: «Охуеть! Охуеть?»
Собственно, его мучил совсем иной вопрос — кто же она такая, и почему у нее дворец, встроенный в обычную «сталинку», — но он не знал, как и у кого спросить и нужно ли спрашивать, а потому просто еще раз набросал ледяной воды на лицо, пригладил волосы пятерней и вышел. Путь обратно найти было легче — кое–где он оставил горящий свет, к тому же нужные двери были приоткрыты. Она сидела спиной к нему, чересчур небрежная, чтобы выглядеть естественно. А он зашел таким немым вопросом, что она сочла нужным сказать: «Здесь это… Коммуналка вообще–то была на весь этаж. Ну, ее выкупили, объединили». Больше о квартире ей говорить не хотелось, и он попытался вернуть их расположение духа, подшучивая над дыркой в носке, над своим растрепанным видом, сравнивая себя с тенью отца Гамлета, пришедшей искать сына отца Гамлета не в тот дворец, но — он отметил это с тревогой — она уже реагировала слабее, смеялась не с такой готовностью, и, когда он, все еще пытаясь оживить, реанимировать, развязно протанцевал к роялю, открыл крышку и начал наигрывать одним пальцем ту мелодию, которую единственно и умел исполнять, — собачий вальс, — она совсем изменилась в лице. Такой видеть ее было страшно, и он подскочил к ней, и умолял, корча из себя медведя, помочь сыграть четвероногому собачий вальс, медведям нравится собачий вальс, и она зажглась — поддалась на слово «медведь», и колотила по клавишам вместе с ним, снабжая основную мелодию неожиданными импровизациями из классики, — играла она трепетно, и закончили они медвежьим объятием, на полу, смеясь, он благодарно вылизывал ей руку, а она трепала его по загривку, и все снова становилось хорошо.
Но вдруг она резко, как от удара, замерла, да так, что он тоже — замер, почувствовав, что сейчас именно так, резко, как на войне во время внезапной атаки, нужно успокоиться, и замолчать, и обратиться в слух и зрение. Она лежала, затаившись, и он уже понимал, в чем дело, — где–то звонил сотовый телефон, ее сотовый телефон, и именно из–за него, именно из–за него. Она вскочила, выбежала в прихожую, вернулась с трезвонящей трубкой, не отвечая, не отвечая на звонок, и попыталась закрыть ее ладонью, чтобы она звенела тише, она держала ее на вытянутых руках, как ядовитого гада, как змеюку, как… А телефон звонил, звонил, и она смотрела на Анатолия и умоляла его о помощи — звонок был как удары часов, бьющих полночь, и карета сейчас превратится в тыкву, а медведь пойдет искать хрустальную туфельку!
«Ответь! Ответь же! Нет таких телефонных звонков, которых нужно так бояться, — говорил он про себя — и, видя ее испуг, говорил уже в голос: — Отвечай, отвечай, я выйду, я выйду в тот коридор, все нормально, можешь говорить!» — а она принялась быстро–быстро Мотать головой, все держа трубку, и сказала одно–единственное слово: «Все». — Что все, что все? — пытался помочь ей освободиться от распиравших ее слов Анатолий. — Что случилось? Кто это звонит? Хочешь я отвечу? — и в ответ: «Все! Все!» — она подталкивала его к выходу, шла вместе с ним и умоляла: «Все!» Звучало как просьба уйти немедленно, немедленно. «Мне уйти? — спросил Анатолий. — Я уйду, погуляю полчасика и вернусь, да?» А ее прорвало: «Уходи сейчас! Уходи немедленно! И никогда сюда не возвращайся, слышишь? Не смей сюда больше приходить! Уходи! Забудь! Забудь меня! Иначе — конец, понял? Все! Уходи!» — «Ты прогоняешь меня?» — попробовал он обидеться, но получалось плохо, он видел, что она — не в том состоянии, чтобы обижать других. «Дурак! Уходи! Все! Ну! Ты не понимаешь! Ты не знаешь! Уходи! И никогда! Не смей! Сюда!» Он был уже за дверью, и она смотрела на него, и глаза у нее блестели — то ли от испуга, то ли от того, что действительно больше — никогда… А он еще не мог поверить, что это навсегда, что она кричит: «Прощай! Прощай!», а телефон продолжает трезвонить, и «прощай» — это не «до свидания», это значит, он никогда больше не встретится со своей… С… Он ведь даже не знает, как ее зовут! Они стали родными, они совершили кругосветку, она называла его «медведем», а он говорил ей «ты», и не было ничего роднее этого «ты». Дверь уже закрывалась, отсекая ее лицо, и он крикнул: — Как тебя зовут? Как?