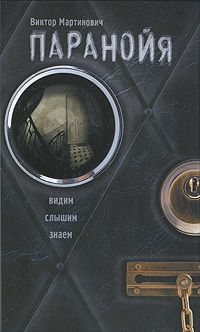Но вдруг она резко, как от удара, замерла, да так, что он тоже — замер, почувствовав, что сейчас именно так, резко, как на войне во время внезапной атаки, нужно успокоиться, и замолчать, и обратиться в слух и зрение. Она лежала, затаившись, и он уже понимал, в чем дело, — где–то звонил сотовый телефон, ее сотовый телефон, и именно из–за него, именно из–за него. Она вскочила, выбежала в прихожую, вернулась с трезвонящей трубкой, не отвечая, не отвечая на звонок, и попыталась закрыть ее ладонью, чтобы она звенела тише, она держала ее на вытянутых руках, как ядовитого гада, как змеюку, как… А телефон звонил, звонил, и она смотрела на Анатолия и умоляла его о помощи — звонок был как удары часов, бьющих полночь, и карета сейчас превратится в тыкву, а медведь пойдет искать хрустальную туфельку!
«Ответь! Ответь же! Нет таких телефонных звонков, которых нужно так бояться, — говорил он про себя — и, видя ее испуг, говорил уже в голос: — Отвечай, отвечай, я выйду, я выйду в тот коридор, все нормально, можешь говорить!» — а она принялась быстро–быстро Мотать головой, все держа трубку, и сказала одно–единственное слово: «Все». — Что все, что все? — пытался помочь ей освободиться от распиравших ее слов Анатолий. — Что случилось? Кто это звонит? Хочешь я отвечу? — и в ответ: «Все! Все!» — она подталкивала его к выходу, шла вместе с ним и умоляла: «Все!» Звучало как просьба уйти немедленно, немедленно. «Мне уйти? — спросил Анатолий. — Я уйду, погуляю полчасика и вернусь, да?» А ее прорвало: «Уходи сейчас! Уходи немедленно! И никогда сюда не возвращайся, слышишь? Не смей сюда больше приходить! Уходи! Забудь! Забудь меня! Иначе — конец, понял? Все! Уходи!» — «Ты прогоняешь меня?» — попробовал он обидеться, но получалось плохо, он видел, что она — не в том состоянии, чтобы обижать других. «Дурак! Уходи! Все! Ну! Ты не понимаешь! Ты не знаешь! Уходи! И никогда! Не смей! Сюда!» Он был уже за дверью, и она смотрела на него, и глаза у нее блестели — то ли от испуга, то ли от того, что действительно больше — никогда… А он еще не мог поверить, что это навсегда, что она кричит: «Прощай! Прощай!», а телефон продолжает трезвонить, и «прощай» — это не «до свидания», это значит, он никогда больше не встретится со своей… С… Он ведь даже не знает, как ее зовут! Они стали родными, они совершили кругосветку, она называла его «медведем», а он говорил ей «ты», и не было ничего роднее этого «ты». Дверь уже закрывалась, отсекая ее лицо, и он крикнул: — Как тебя зовут? Как?
И, уже из–за почти закрывшейся, уже приглушенно, как из Аида: «Елизавета».
Он ответил: «Анатолий» — ответил закрытой двери, и он ведь, кажется, говорил ей сегодня, что его зовут Анатолий, говорил о себе в третьем лице: «И тут Анатолий перегрыз прутья решетки…», так что было понятно, что Анатолий — это он, и как странно думать, что они знакомы всего день! Он прижался ухом к двери, надеясь услышать ее голос, — нет, даже не это — надеясь услышать ее шаги, и хохот, и дверь распахивается, и она говорит, что пошутила, но нет, ее страх был слишком явным, с таким страхом не шутят. Боже, что происходит?
Третий этаж. Квартира 54. Дом на Карла Маркса. Он узнает по адресу ее фамилию, разыщет телефон и будет звонить ей каждый день — она запретила ему возвращаться, но он будет звонить. Она испугалась. За него или за себя? Анатолий не хотел уходить с площадки, он очень боялся безвозвратности этого ухода, а еще он боялся, что ее страх и горе, вызванное этим звонком, выльются, как в голливудских фильмах, в медленный полет с третьего этажа, который из–за пятиметровых потолков — почти как пятый, и ровно к тому моменту, когда он выйдет из подъезда, она появится на балкончике своего прекрасного дворца и улетит в звездную ночь, и полет этот закончится как раз у его ног. И вот где, кстати, ее окна? Он поднял голову, стоя у выхода из подъезда, нашел третий этаж, в окнах которого то тут, то там горел приглушенный свет, но быстро сообразил, что квартира может тянуться до самого конца дома да поворачивать вместе с ним, и, кто знает, — может, она двухуровневая. Может быть, весь этот дом — сплошная ее квартира, в общем — пустое.
Он брел к себе домой, и на улицах еще встречались какие–то людишки, какой–то люд, этот люд с кем–то рифмовался в его голове, рождая то «чудо–юд», то «блюд», то «уют», и это было прекрасным способом не думать о ней. Тем более что он все равно ее найдет: вызвонит, выпишет, вымолит, вымолвит… Довольно сложно было продолжать, глядя на монолит Audi А8, стоящий на том самом месте, где он его в последний раз испугался, — в его дворе. Ни один обыск, ни один выездной допрос с пристрастием не мог длиться так долго. Что здесь делает эта машина и за кем приехала? Он сбился со своего быстрого шага, в ритме которого так удобно думалось–шагалось («вызвонит, вымолвит, вызволит»), и натужной походкой стал приближаться к этому вороненому воронку.
Audi была столь же неуместна здесь, среди родных каштанов, как виселица на детской площадке. Как если вот ты утром подходишь к окну и обнаруживаешь рядом с покосившейся каруселью и вросшей в землю детской горочкой стоящий эшафот и болтающуюся на ветру петлю. И все идет своим чередом — ходят соседи, сидят на лавочках пенсионеры, и все боятся остановиться рядом или задержать взгляд — вдруг это покажется подозрительным, вдруг тебя за это…
Он подошел вплотную к Audi, он заглядывал в стекла — такие же черные и непрозрачные, как металл, — он надеялся угадать хоть какое–то движение, помигивание сигнализации (как будто таким машинам нужна сигнализация), но видел лишь самого себя и находил, что вот это собственное отражение в стекле, за которым пытаешься найти что–то рациональное, объясняющее животный страх, — прекрасная метафора паранойи. И его паранойя уже поднималась волнами откуда–то из живота, рассудок говорил ей: «Ничего страшного, машина могла приехать за кем угодно». Или: «Если бы они следили за тобой, встали бы прямо у твоего подъезда», — но его «я» уже продуцировало, уже нашептывало, уже призывало бежать отсюда к чертям и не останавливаться, но он еще держал себя в руках. И вот в тот момент, когда он убедил себя, что двери не откроются и его не запихают внутрь… В тот момент, когда он совершенно точно уверился — из–за непроглядной недвижимости в глубинах машины, — что никого там нет, что этот механизм безлюден… Когда собирался шагать отсюда прочь… В эту секунду, подтверждая жуткую догадку, что, пока он вглядывался в черноту за окном, кто–то или… или что–то (он содрогнулся) разглядывало его из–за стекол своими птичьими (воронок) глазами, разглядывало механистично, так же, как он разглядывал в этот момент свое отражение и думал о своей паранойе… В общем, он уже не вспомнит, что было раньше — двигатель, грохнув стартером, завелся или включились слепящие ксеноновые фары. Машина с плавностью кобры вывернула колеса и тронулась. И, сделав ненужный круг по двору, высматривая, высматривая жертву, — круг хищника, неспешного и готового низринуться, — сделав этот круг, ускорилась, ускорилась и исчезла.
Анатолий уже бежал к себе домой, душимый страхом, — они ждали его, они уехали, когда убедились в том, что он пришел, — что происходит? Что он натворил? И, чем быстрей он скакал вверх по ступеням, тем хуже было — движение как будто подгоняло это душащее чувство, раскачивало его. И только дома, закрыв за собой металлическую дверь, осветив и осмотрев зачем–то все комнаты, он вжался в кресло и стал успокаивать себя. Недоразумение. Конечно, глупое недоразумение. Офицер — обычная гэбэшная сволочь, небось здорово прикололся, глядя на то, как Анатолий расхаживает вокруг машины. Главное, не позволять себе говорить «они» — этому его однажды научил Дэн, которого перед тем, как он начал работать на них… Нет, на МГБ, на Министерство госбезопасности, — до того запугали, что он чуть не закончил в психушке. «Они» — это обычное ведомство, а не всемогущая сила, нужно их называть их именем, Бог каждому из нас дал имя, и только демоны нашего страха — неназываемы и неисчислимы. «Они» — это Министерство госбезопасности, даже если Министерство госбезопасности следило за Анатолием, это обусловлено какими–то рационально объяснимыми интересами, и для Анатолия это не чревато ничем таким страшным, из–за чего можно сидеть вот так, вжавшись в кресло. Доводы разума действовали успокаивающе, но внутри еще срывалось, еще вздрагивало, и он трижды подошел к окнам и осмотрел двор (машины не было), и снова обошел комнаты, да набрал Дэна, желая поговорить с ним ни о чем, — это всегда действовало успокаивающе, но Дэн был недоступен, а смятение в душе уже успокаивалось, уже превращалось в тупой штиль.
Они только, взявшись за руки, запрыгнули на их теплоход, она только, закинув голову, расхохоталась, когда он спросил: как так получилось, что у нее белокурые волосы, но она не блондинка, — когда из другого, гулкого и темного мира раздался дребезжащий, сначала принятый за звук далекого трамвая, звонок. И мелькнула на секунду догадка о том, что тот ее звонок, которого она так испугалась, мог быть просто звонком будильника, она просыпалась в другую реальность, и потому прогоняла его, и потому говорила, что они больше не встретятся, — и эта мысль была такой притягательной, такой все объясняющей, что он бы с ней и остался, но повторная, уже отчетливая, уже именно телефона — серого советского дискового телефона, стоящего у него дома на кухне, — трель, окончательно вырвала его из сна, и это сладкое допущение — о ней, увидевшей его во сне, но разбуженной звонком или будильником другой реальности, растаяло. Само то место, в котором могло существовать это допущение, — исчезло. На часах у дивана было «4.32». Однако. В голове забухали молотки — сначала тяжело и медленно, затем — все ускоряясь, ибо нет ничего страшнее телефонного звонка в полпятого ночи. «Воронок!» — он уже помнил о той машине и успел подумать, что «они» всегда приходят с обысками по ночам, но звонили не в дверь, звонил телефон, и, приглушая весь этот полночный сумбур, он просто снял трубку.