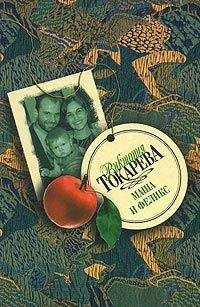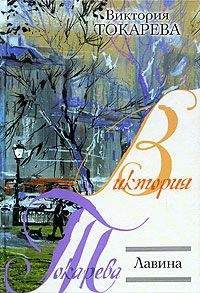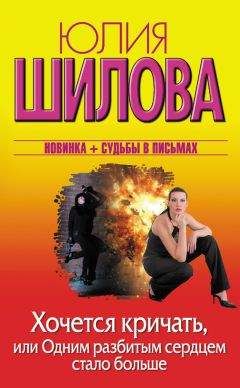Эля решила выждать, выдержать паузу. Она вымотает его своим молчанием.
Потекла неделя. Эля умерла, но продолжала при этом есть, разговаривать, куда-то уходить и возвращаться, спрашивать свекровь: никто не звонил?
Свекровь перечисляла. Ивана среди них не было.
— Иван не звонил? — как бы между прочим уточняла Эля.
— Нет, — уверенно подтверждала свекровь, и Эля проваливалась еще глубже в свою смерть.
Человек считается мертвым, когда останавливается сердце. А когда останавливается душа?
В конце недели Эля подошла к купеческому дому. Машина — на месте. За день ее запорошило сухим снегом. Эля, не снимая варежки, стала вытирать ветровое стекло.
Иван видел из окна, как Эля вытирает машину. Это было ужасно. Лучше бы она взяла кирпич и ударила по крыше и по капоту. Но она все вытирала, будто прощала.
Прием окончился. Иван сидел. Эля ждала.
Заглянула уборщица, спросила:
— Вы сами запрете или как?
Иван взял пальто и вышел на улицу.
— Как ты поживаешь? — спросил Иван, подходя.
— Ты же говорил, что сдохнешь без меня, — тихо, бесцветно поинтересовалась Эля.
Иван сделал неопределенное движение лицом, как тогда, когда она сказала: «Вы гений».
— Ладно, уезжай, — отпустила она.
Иван стоял.
— Садись. Включи музыку, чтобы веселее было ехать.
Она издевалась. Он обиделся.
— А вот это уже не твое дело, — сказал он. — Как хочу, так и поеду.
Иван сел в машину. Повернул ключ. Машина тронулась.
Эля стояла и смотрела вслед. Она не верила, что он уедет. Ждала: он сейчас сделает круг и вернется. Куда он от нее денется? Это даже смешно. Он появится вон из-за того угла, из-за вывески «Ремонт часов». Она пойдет ему навстречу, обнимет машину. Пусть он не успеет затормозить и задавит ее немножко.
Эля стояла четыре часа. С двух до шести. Это было их время. Сухой снег запорошил брови и волосы. В отдалении возвышался бронзовый Гоголь, ему намело на голову целую шапку. Большая ворона села на Гоголя, утопив лапы в снегу. Эля подумала, что сейчас ворона перелетит на нее. Решит, что еще один памятник.
Длинная черная машина остановилась против Эли. Из нее высунулся «папашка» с наполовину лысой головой и спросил на почти русском языке:
— Подвезти? — Видимо, это слово он выучил.
Эля не сразу поняла, чего он хочет.
— Подвезти? — повторил Папашка.
Эля сняла с головы шапку, которую она сама себе связала в прошлой жизни, резким движением стряхнула с нее снег. Сказала:
— Подвезти.
Папашка оказался представителем западной фирмы.
Работал в Москве по контракту.
Папашка — бизнесмен. Но не такой, как Коля. У Коли все шатко-валко, как дом из соломы у поросенка Нуф-Нуфа. Папашкин дом — на крепком фундаменте.
Фирмач в Москве имеет жизненные преимущества: еда в продуктовых «Березках», одежда в долларовых магазинах, машина иностранной марки, Большой театр и красивые женщины.
Папашка — вдовец. Его жена Паола умерла десять лет назад. Эля как две капли воды оказалась похожа на Паолу, только моложе и красивее.
Папашкина квартира находилась на Кутузовском проспекте, занимала половину этажа. Стены белые, крытые водоэмульсионной краской, а на стенах картины — русский авангард тридцатых годов. Папашка понимал толк в живописи.
Эля провалилась из развитого социализма прямо в капитализм. Это произвело на нее большое впечатление. Единственное, все время мерзло правое колено с правой стороны. Им она прислонялась к колену Ивана. А теперь было пусто. Потому и холодно.
Уходя на работу, Папашка оставлял список продуктов и кошелек с твердой валютой. Эля отправлялась в продуктовую «Березку». В магазине — вся еда, какая бывает в мире. И не в праздничных заказах, а так. Бери не хочу. Эти магазины среди Москвы как острова капитализма. Поражали метровые осетры, каких она видела только в исторических фильмах на пирах Ивана Грозного. Банки с икрой лежали штабелями. Иностранцы не торопились их покупать. Поговаривали, что из-за экологии — в икре ртуть, а осетры болеют рыбьим СПИДом.
Папашка любил сам накрывать на стол. Тонко резал на доске сыры, потом украшал зеленью, вырезал из перца звездочку, из апельсина хризантему. Будучи голодным, он тратил на эти приготовления по полчаса, но иначе он не ел. И так же относился к любви: долго, подробно, обстоятельно.
Эля обнимала Папашку, но мысли ее были далеко. В долларовой «Березке».
Она искала себе плащ. И нашла. И он ударил ее в сердце. И она его купила. А когда принесла домой — выяснилось: не идет. Оливковый цвет убивает. Понесла и поменяла. На светлый и длинный. Вернулась домой и посмотрела внимательнее — оказалось, что слишком светлый и слишком длинный. Подкоротила. Испортила. Все. Плащ пропал. На другой денег не дадут.
Эля не спала две ночи, просыпалась в кошмаре. Пыталась себя утешить: ну что такое плащ? Мануфактура. Не более. Но тут же находила прямую аналогию между мануфактурой и жизнью: нашла Толика, поменяла на Игоря, хотела обменять на Ивана. Укоротила. Теперь сидит в квартире с белыми стенами, как в сумасшедшем доме.
Игорь отнесся к Элиному зигзагу неожиданно легко. Оказывается, у него в группе была любовница — художник по костюмам. Она его не била. Она его понимала.
Прошлый Мишаткин — нищий запьянцовец, почти бомж — не мог бы внушить хоть сколько-нибудь стоящего чувства. Эля его отмыла, выпрямила, поставила на стержень и дала ему новую любовь. И Ивана вернула в семью, хоть у нее и не было таких задач. Но об этом лучше не думать, особенно по ночам. Не думать. Забыть.
Эля подарила плащ маме Игоря.
— Деточка, а я не старая для такой вещи? — усомнилась мама.
— Старых женщин не бывает, — объяснила Эля. — Бывают продвинутые в возрасте.
— А куда я это надену?
— А куда вы ходите?
— В магазин.
— Ну, значит, в магазин.
Мама Игоря гладила плащ, будто он был живой.
— У меня никогда не было такой красивой вещи, — сознавалась она. — А как его зовут?
Последний вопрос относился к Папашке.
— Норберт, — вспоминала Эля.
— Какое замечательное имя. Вы его любите?
— Что значит «любите»? — притворно не понимала Эля. — Хочу любить и люблю.
Эля хотела полюбить Папашку, но мешала «персияна». Персияна — это манто из бежевато-розового каракуля, должно быть, крашеного, ибо розовых овец не бывает даже в капитализме. Перламутровый туман мечты поднимался в Элиной душе: пройти бы в такой шубе мимо Ильи, мимо Верки-разводушки, мимо Ивана Алибекова…
Эля намекнула Папашке о персияне. Папашка тут же резонно заметил, что буржуазность не модна. Сейчас в моду вошли русские ватники, которые продаются в магазине «Рабочая одежда» и стоят одиннадцать рублей русскими деньгами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на вате, но без синтетики. Чистый хлопок.
Эля выслушала Папашку и сказала:
— Жмот.
Папашка согласился и объяснил причины своей жадности: он живет на проценты с капитала, а основной капитал не трогает.
Эля заметила, что для Папашки деньги — это занятие и хобби. Больше, чем деньги, он любил только свою дочь Карлу, двадцатилетнюю телку. И как догадывалась Эля, именно для нее он и приберегал основной капитал.
Папашка был вдовец. Значит, Карла — сиротка. Эта сиротка, судя по фотографиям, была ростом под два метра, волосы коротко стрижены и зачесаны назад, как у Сталина. Занималась медитацией и умела летать — в смысле «висеть над полом».
Жили, слава Богу, врозь. Папашка в Москве. А Карла — на Западе, в загородной вилле вместе со своим любовником-наркоманом. И сама наркоманила за милую душу. Видимо, в эти моменты она и летала.
В день рождения Папашка купил Эле кофточку — черная ангора, шитая золотом. Катя Минаева замерла от шока. Но Эля знала: ей кофточку, а Карле — маленький «фольксваген» с автоматическим управлением. Русские мужья дарили ерунду: коробку мармелада, букет цветов — но дарили на последние деньги. А Папашка на проценты с капитала. У него даже пальцы жадные, и он все время их нюхает: во время работы, во время еды. Невроз навязчивой привычки.
В Эле копилась духота.
И однажды сверкнула молния и грянул гром.
Эля потребовала от Папашки путешествия по Союзу. Она нигде не была, кроме города своего детства Летичева и Москвы. А существуют еще Азия с Хивой и Бухарой, Грузия с горой Мтацминда, где захоронен Грибоедов, Армения с Эчмиадзином, где лежит кусочек Ноева ковчега. Да мало ли чего существует…
Папашка легко согласился, видно, ему и самому хотелось попутешествовать. Но в сюжет неожиданно вмешался любовник Карлы.
Там, у себя на Западе, на своей улице он зашел в кафе, напился до чертей и метнул бутылкой в витрину бара, и теперь придется оплатить хозяину нанесенный ущерб.
Папашка горько посожалел о незапланированной трате. Он собирался вложить эти деньги в путешествие, а теперь все отменяется. Вот, оказывается, от чего зависит Эля: от того, как поведет себя в баре любовник Карлы, что взбредет в его наркоманскую голову. Эля затряслась и заорала на Папашку по-русски и даже по-татарски, поскольку утверждают, что русские нецензурные слова имеют татарское происхождение. Папашка ничего не понял, но это и не обязательно, ибо все было ясно из выражения Элиного лица. Такого лица никогда не было у его жены Паолы. Папашка вдруг понял, что прошлая жизнь, счастье ушли навсегда. Русская женщина с волосами светлыми, как луна, не стала ему близкой. А Паола умерла. И можно отдать не только проценты, но и основной капитал, — Паолу не вернуть. А он бы отдал. Босой и бездомный вышел бы на площадь, но с Паолой. Она не была так молода и так красива, как русская. Но она была ЕГО. А эта — чужая. Не считается ни с чем, что дорого: ни с его деньгами, ни с дочерью, ни с ее сложной жизнью. Не понимает и не хочет понять.