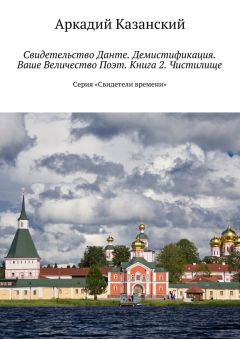Ознакомительная версия.
— Я не знал… не знал, что он у тебя. — Он перевел дыхание. — Откуда…
— Нашла в одежде Трумена. Он носил его в кармане.
— А я искал. Думал, где-то в моем столе.
— Тру его забрал.
— Когда? — Голос отца превратился в шепот.
— После нобелевки.
— Но почему?
Я не хотела отвечать.
— Анди, почему?
— Потому что ты нашел себе другой ключ к миру.
Как получается, что недели и даже месяцы проносятся незаметно, но некоторые мгновения растягиваются на целую вечность? Мать, теряющая сознание в руках полицейского. Отец, стоящий у рентгена в аэропорту, поникший и сломленный, как марионетка с оборванными нитками.
Мы все-таки успели на утренний рейс. Я всю дорогу слушала музыку и спала. Отец работал.
— Давай маме позвоним, — предлагаю я, когда он заканчивает очередной разговор.
— Нет. Ты же помнишь, что доктор Беккер сказал.
Конечно помню. Мы были у него вчера утром, после того как попрощались с мамой. Она осталась сидеть на краешке постели, накачанная успокоительными. На ней был больничный розовый костюм вроде спортивного. Она ненавидит розовый цвет. И ненавидит спортивные костюмы.
Я попросила у доктора Беккера ее номер, чтобы позвонить из Парижа. Он сказал, что у пациентов клиники нет телефонов.
— Тогда как же с ней поговорить?
Он дежурно улыбнулся и произнес:
— Анди, это нецелесообразно…
— Смотря какая у вас цель, — возразила я.
Улыбка исчезла.
— Ей сейчас показан покой и лучше воздержаться от контактов с внешним миром. Возможно, через неделю, когда она освоится в новом окружении… Думаю, ты согласна, что это в ее интересах.
Я не была согласна. Я не была согласна ни с чем. Ни с уколами и таблетками, ни с персиковыми стенами, ни с занавесками в цветочек. Но особенно я была не согласна с пейзажем на стене.
— Хотя бы снимите эту дрянь, — попросила я.
— Ты про что?
— Про картину, которая висит у нее в палате. С домиком и сиреневым закатом. Это же блевотина. Тошнотворный, узколобый триумф посредственности. Где вы этот ужас откопали? На распродаже в отделе канцтоваров?
— Анди! — рявкнул отец.
— Знаете, на что она привыкла смотреть? Что она прикрепила на стену возле мольберта? Натюрморт с яблоками Сезанна. И синий кофейник Ван Гога. И его же натюрморт с макрелью.
— Прекрати это сейчас же, — снова зарычал отец и повернулся к доктору Беккеру. — Мэтт, прости, я…
— Снимите эту мерзость! — Мой голос задрожал.
Доктор Беккер поднял руки.
— Хорошо, Анди. Если ты настаиваешь, чтобы картину сняли, ее снимут.
— Нет, прямо сейчас!
— Анди, черт возьми, да как ты смеешь так разговаривать! — закричал отец.
— Прямо сейчас не получится, — сказал доктор Беккер. — Мне нужно сначала позвонить в техническую службу, чтобы они прислали работника. Но даю тебе слово, ее обязательно снимут. Годится?
Я сдержанно кивнула. Хоть что-то. Маленькая, но победа. Я не могла спасти маму от доктора Втащу-Вас-В-Рай, но по крайней мере я спасла ее от Томаса Кинкейда[24].
Пробка понемногу рассасывается. Мы набираем скорость и несколько минут спустя уже едем по окраинам Парижа. Вдоль дороги мелькают обшарпанные каменные домики, площадки подержанных машин на продажу, фалафельные и парикмахерские. В темноте светящиеся надписи сливаются в одно расплывчатое пятно.
— Может, тебе это на пользу пойдет, — произносит отец, когда мы выезжаем на кольцевую. — Отвлечешься.
— Ты про что?
— Про смену декораций. Про Париж.
— О да. Мой брат погиб, моя мать спятила, ура, давайте же отвлечемся и скушаем круассан!
Оставшуюся дорогу мы не разговариваем.
— Льюис! Вздорная твоя голова! Формальдегидная твоя душа! Лабораторное ты ископаемое! Из тебя еще не весь песок высыпался?
Мне много раз хотелось его так обозвать. Примерно теми же словами. Но это говорю не я.
Это говорит Джи, старый друг отца. Круглый мужичок в желтых джинсах, красном свитере и в очках. Он рок-звезда среди историков. Звучит дико, зато верно его описывает. Еще он написал мегабестселлер про Французскую революцию. Книга получила все мыслимые награды. «Би-би-си» снял по ней сериал. Энг Ли делает полнометражку.
Джи с отцом познакомились в аспирантуре Стэнфорда. На самом деле он Гийом Ленотр, но отец зовет его Джи: поначалу произносил его имя как «Гвилломей», потом как «Джиюм» и наконец сократил до «Джи» — для простоты.
Джи всегда говорит с нами по-французски. Я выучила этот язык в детстве. Отец учит до сих пор.
— Батюшки! А это у нас кто? — Джи окидывает взглядом мою кожаную куртку, мои железяки и мои косички. — Кто, кто эта готическая чаровница? Неужто крошка Анди? Смотри-ка, уже совсем взрослая — и в полной готовности дать отпор римлянам.
— И заодно всем остальным, кто подвернется под руку, — ворчит отец.
Джи смеется.
— Ну, заходите, заходите же! Лили давно ждет!
Он отступает в сторону, чтобы мы могли войти, запирает дверь и ведет нас по длинному плохо освещенному внутреннему двору, который заставлен и завален всевозможным архитектурным хламом — мраморными колоннами, карнизами, кормушками для лошадей, фонарями, фонтанами и кучей обезглавленных статуй.
Когда машина остановилась, я подумала, что таксист ошибся адресом. Мы заехали в недра Одиннадцатого округа, что к востоку от центра. Пейзаж — как на краю земли. Вместо собственно дома я увидела высокие каменные стены и огромные железные ворота. Все это было покрыто граффити и заклеено обтрепанными плакатами автомобильных выставок и стрип-клубов. Через дорогу — злачного вида автомастерская и контора по продаже теплоизоляции. В остальном пустырь как пустырь.
— Да нет, адрес правильный, — сказал отец, расплачиваясь с водителем. — Дом восемнадцать по рю Сен-Жан. Кажется, бывшая мебельная фабрика. Джи купил ее несколько месяцев назад.
Отец нащупал висящий на проводах ржавый звонок и нажал кнопку. Через пару минут распахнулась небольшая дверь, врезанная в одну из исполинских железных створок, из нее выкатился Джи и бросился нас целовать.
— У вас тут прямо задворки мира, — говорит отец, следуя за Джи. — Можно снимать кино про апокалипсис.
— Это и есть задворки мира, дружище! Точнее, задворки восемнадцатого века. За мной! — Джи увлекает нас в глубину длинного каменного строения. — Вон туда, к лестнице. Идемте, идемте, идемте!
Мы еле успеваем за ним. Весь первый этаж — одно помещение, необъятное, как пещера, — заполнен коробками и ящиками, между которыми оставлен узенький проход. Нужно смотреть в оба, чтобы ничего не задеть.
— Это добро еще предстоит каталогизировать, — поясняет Джи, любовно похлопывая по одному из ящиков. — На втором этаже все уже рассортировано.
— А что это? — спрашивает отец.
— Кости старого Парижа, дружище! Призраки Революции!
Отец застывает на месте.
— Ты шутишь? Все вот это? Я думал, у тебя пара коробок с артефактами.
Джи тоже останавливается.
— Вообще-то я снимал четырнадцать камер на складе, и все были забиты до потолка. Потом на рынке всплыла эта фабрика, и я тут же понял — вот что мне надо! В общем, я ее купил и перевез всю коллекцию. У меня теперь, знаешь ли, появились спонсоры. Шесть французских компаний и две американские. Еще пара лет — ну, года три от силы, — и мы будем готовы.
— К чему? — спрашиваю я, не понимая, что можно сделать с таким количеством барахла.
— К открытию, моя дорогая! Здесь будет музей Революции — прямо в помещении бывшей фабрики.
— Здесь? — переспрашивает отец, с сомнением оглядывая разбитые окна и гнилые балки.
— Разумеется. Где же еще?
— Например, в центре Парижа, поближе к туристам, — предлагаю я.
— Нет-нет-нет! Только в Сент-Антуане! — говорит Джи. — Тут были рабочие кварталы, самое сердце Революции. Здесь заваривалась вся та ярость, вся кровь и мощь — все, что стало топливом для Революции. Конечно, Дантон разглагольствовал в Ассамблее, а Демулен в Пале-Рояле, это понятно. Но когда политикам надобилось перейти от слов к делу, к кому они обращались? К заводским рабочим, к мясникам. К прачкам и торговкам — фуриям Сент-Антуана. К обозленным, обездоленным и нищим. Так что музей должен быть именно здесь, где люди жили, боролись и умирали.
Джи всегда так разговаривает. Не только когда его снимает «Би-би-си».
Отец рассматривает что-то за его спиной.
— Это то, что я думаю? — спрашивает он, приподнимая брезент.
— Если ты думаешь, что это гильотина, то думаешь правильно, — говорит Джи и откидывает брезент. — Ее нашли пару лет назад на каком-то складе. Мне ужасно повезло, что я успел ее купить. Это же восемнадцатый век, таких почти не осталось! Обратите внимание, какой рациональный дизайн — две балки с перекладинами и лезвие, больше ничего. При старой власти осужденных дворян обезглавливали, а простолюдинов вешали — второе было куда болезненнее. А революционеры требовали равенства во всем, даже в смертной казни. Так что будь ты нищий, кузнец или маркиз — не важно, все враги режима кончали жизнь одинаково. Считалось, что это быстрая и гуманная казнь. Судя по тому, как выглядит этот экземпляр, им активнейшим образом пользовались. Видите?
Ознакомительная версия.