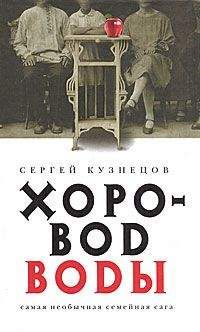Я Коле рассказала, он и говорит: а что мы в квартире погибшего солдата живем, тебе ничего? Так, мол, и должно быть. На место умерших бойцов приходят новые.
Только бойцов у нас в Березовке не было. Дура Лушка спрятала двух партизан – и все.
Нина смотрит на улицу – там двухэтажные деревянные дома, инвалид на скамейке разговаривает с двумя бабами. Из соседского окна слышен патефон.
Это – Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире государства рабочих и крестьян. Глухая окраина, Сокольники.
Нина гладит круглый живот, уговаривает мальчика или девочку потерпеть немного, не пинаться, полежать смирно. Врач сказал, с ним уже можно разговаривать. Или с ней?
Нина ждет мужа. Целыми днями сидит дома, боится выходить. Даже днем на улице могут напасть, отобрать деньги, просто раздеть. Могут и ножом пырнуть, и пристрелить. Очень уж блатных много.
Коля говорит, все началось после войны. Раньше Москва была другая. А теперь приучили убивать – вот люди никак и не остановятся.
Нина не умеет убивать. Она умеет только не умирать, только прятаться.
Два месяца она скрывалась в лесах, питалась ягодами, иногда рыла картошку на сгоревших огородах Березовки. При звуке мотора падала на землю, замирала.
Раньше Нина любила ходить по лесу. Мама смеялась, называла «моя лесная девочка».
Мама сгорела вместе со всей деревней. Нина осталась жива – утром пошла за грибами, когда появились каратели – схоронилась в лесу, не выходила, пока все не кончилось.
Пока все не умерли.
Коля говорит, он бы в лесу не продержался и дня. Я, говорит, волков боюсь. Смеется, наверное, – ничего он не боится.
За него боится Нина.
Боится, что Колю зарежут, чтобы отобрать пистолет.
Боится, что Коля остановит кого-нибудь проверить документы – а тот начнет стрелять.
Боится, что Коля пойдет брать малину – и его убьют в перестрелке.
Боится, что Коля зайдет в подъезд – а там засада.
Нина говорит: береги себя, ради бога. Подожди хотя бы, пока ребенок родится!
А Коля отвечает: я присягу давал. Если я их не остановлю – они же дальше убивать будут. Вот недавно в Марьиной Роще вырезали целую семью. Даже ребеночка маленького. Двадцать пять тысяч рублей унесли.
Огромные деньги. У Коли зарплата всего пятьсот пятьдесят. Это сколько надо работать за такие тыщи?
– А сколько было ребеночку? – спрашивает Нина.
– В колыбельке еще, маленький совсем, – отвечает Коля. – Убили, чтобы не кричал.
Зачем он рассказывает? Нине хочется еще раз услышать, как после родов Коля возьмет отпуск и не будет ходить на работу каждый день. Нет, не хочет Коля говорить про отпуск, отвечает Нине: погоди, всех переловим – тогда заживем хорошо, счастливо!
Нина не верит. Помнит, как говорили: выгоним фрица – заживем хорошо, счастливо! Где ж нынче то счастье? Она теперь каждый день мужа как на фронт провожает!
Впрочем, сама виновата: знала, за кого замуж вышла. С первой минуты. Но все равно – Коля был такой красивый в новой форме, в синей, с красным кантом. Фуражка с голубым околышком. Сапоги. Как на танцах его увидела – сразу влюбилась. Коля потом сознался: из-за формы в милицию и пошел, давали бесплатно, а то носить нечего.
Еще на фуражке была звезда, в центре – солдат с винтовкой наперевес. Нине тоже очень нравился.
Тогда Нина только приехала, боялась Москвы – просто жуть! По улицам пробиралась все бочком, бочком – а мимо, сплевывая под ноги, шли-форсили местные, ничего не боялись. Их на улице сразу было видно: кепка-восьмиклинка, хромовые сапоги, белый шарф-кашне.
Коля потом сказал: это блатные. То есть – бандиты.
– Почему же они так по улице ходят, никто их не арестовывает? – спросила Нина.
– Ну, нельзя человека за кепку-восьмиклинку арестовать, – засмеялся Коля. – Но не волнуйся, скоро ходить перестанут. Жаль только, вышку отменили. Ну ничего, при случае сами будем разбираться, – и подмигнул.
Вышка значит высшая мера наказания. Расстрел. Ее отменили год назад. Коля говорит: лес некому валить в Сибири.
Нина думает: вот родится ребенок – и как будет жить? Хорошо еще, война кончилась. Но все равно: неужели всю жизнь в городе? Ни леса, ни реки настоящей. Конечно, можно съездить в ЦПКиО, там с пристани ныряют, плавают – только Нине как-то неловко. Она ведь плавает как деревенская, в Москве, небось, у всех какой-нибудь стиль.
Нина сидит дома, ждет мужа. Сидит, ждет, волнуется, тревожится, боится. Читать толком не читает, патефона у них нет, даже радиоточки нет, дом-то старый. Не знаю, были тогда вообще телевизоры или нет, но у Нины с Колей точно не было.
Я тоже сижу дома, тоже дожидаюсь Никиту, тоже волнуюсь за него – хотя чего мне волноваться? Бизнес у Никиты мирный, машину водит аккуратно. А я все равно волнуюсь.
Хотела бы сказать: Не знаю, как я бы волновалась на месте Нины, – но не могу: я – это она, она – это я, значит, когда-то я вот так сидела, ждала мужа с работы, скучала, глядела в окно, гладила беременный живот, боялась выйти на улицу.
Как странно чувствовать внутри себя чужие жизни! В памяти вдруг всплывают обрывки чужих мыслей, ненужных знаний. Какие ягоды съедобны. Где лучше собирать грибы. Как залезть на дерево и устроиться так, чтобы ночью не свалиться.
А иногда привяжется какой-нибудь мотив, звенит в голове час за часом. Даже слова можно разобрать:
Отец мой фон-барон ебет свою красотку,
А я, как сукин сын, свою родную тетку
Всегда, везде,
С полночи до утра,
С вечера до вечера
И снова до утра.
Отец мой фон-барон ебет одних богатых
А я, как сукин сын, кривых, косых, горбатых
Всегда, везде,
С полночи до утра,
С вечера до вечера
И снова до утра.
Я знаю: это пели мальчишки, Нина проходила по двору и услышала эту песню. Вот теперь она и звучит у меня в голове. Всегда, везде, с полночи до утра – и я не знаю, насмешила эта песня Нину, напугала, раздосадовала? Меня от нее берет тоска. Всегда, везде – то есть в этой жизни и в предыдущих, круглые сутки, ночью и днем, я сижу в кресле, на стуле, на табурете – и жду, пока любимый вернется домой. И боюсь: вдруг с ним что-то случится.
Когда я – Нина, я глажу свой большой беременный живот. Когда я – Маша, я снова и снова крашу ногти на ногах, хотя никуда не собираюсь выходить. Меня это успокаивает.
Коля приходит домой, рассказывает, как взяли на днях банду Казенцова прямо в поезде с перестрелкой. Они в детский вагон забились, их проводник заметил, позвонил куда надо. Выяснилось: машины угоняли. Просили шофера за город отвезти, а там убивали. Теперь их самих убили, двоих по крайней мере.
Коля говорит, в Москве слишком много оружия. Трофейное, привезенное с войны, отнятое у милиционеров, украденное с завода «Серп и молот», куда старое сдают на переплавку.
Чтобы у милиционера пистолет нельзя было вытащить, объяснил Коля, он надет на специальный красный шнур. Шнур поднимается по борту мундира, огибает шею, спускается по другому борту. А в рукоятке у пистолета – специальное ушко, за него шнур крепится. Коля объяснил и даже показал, но я все равно не понимаю: лучше бы пистолет можно было просто отнять. А так, если какой блатной пистолет захочет – он же убивать будет?
Я очень боюсь за Колю. С тех пор как забеременела, боюсь еще больше.
А сначала была так рада! Представляла, как ребеночек у меня растет там, внутри, ходила к врачу раз в месяц – врач рассказывал, когда глазки появляются, когда ручки. Жалко только, родится он в Москве, не в деревне. Разве здесь – жизнь? Чего я сюда поехала? Наверное, знала – Колю встречу. А больше здесь и нет ничего хорошего, в Москве.
Хорошо, что я в училище не поступила. Так бы учиться пришлось – а, глядишь, ребеночек родится, Коля и одумается. И уедем мы вместе отсюда, куда глаза глядят.
Я уже почти год здесь живу, а понять не могу: что сюда людей тянет? У врача в очереди познакомилась с бабой, как я, на сносях, но старше будет, Марфой зовут, тоже из деревни, но в Москве давно, с до войны еще. Она добрая, утешает меня, говорит, рожать не страшно. Страшно, говорит, жить, а еще страшней – умирать. Я тогда сказала, мол, я знаю, у меня вся деревня погибла. А она меня по голове так погладила, сказала бедная! – и я почувствовала на минутку, будто мама снова со мной. Хотя грех, конечно, так говорить, другой мамы у меня не будет. Я сама теперь – мама. Осталось-то всего два месяца.
В очереди к врачу бабы рассказывали страшное: будто можно за деньги ребенка извести. Если рожать не хочешь. В Березовке тоже говорили, мол, девки отвары всякие пьют, если чего случалось. Я маленькая была, но понимала, чего говорят. Ну, отвар – это понятно. А тут вроде как можно найти тайного врача, и он за полторы тысячи рублей, ну, это… все сделает.
Полторы тысячи! Это какие же деньги! У кого они быть-то могут, подумать страшно! Вот я каждый месяц считаю, как на пятьсот пятьдесят прожить. На двоих – с трудом. А тут еще ребенок, его же тоже кормить надо.