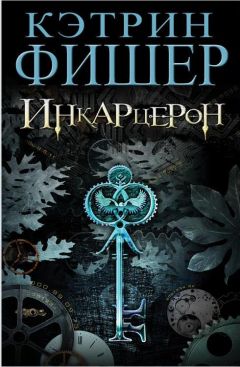Так думал о своем Узнике комендант долгосрочного блока майор Блажной. Иногда, уловив брезгливую мину, он позволял себе критическое замечание: «Какой ты странный мужик, Страто, то есть замысловатый вы какой-то человек, не совсем русский».
Вот наконец что-то похожее на имя промелькнуло в авторских размышлениях, однако, и впрямь, что это за имя, не совсем русское? Может быть, из Европы через Молдавию оно к нам пожаловало, как иные странные фамилии, вроде Лазо, Фрунзе, Змеул?
В ответ Узник чаще всего потуплял взор, слегка зубами издавал какое-то скрежетание, реже взрывался. «Что же, по-вашему, всякий русский должен сразу привыкать к этой вашей вонище?»
Майор ужасался: «Да вы что, гражданин долгосрочно подследственный? Знали бы вы, какие средства уходят на дезодоранты!»
Узник Страто бил себя кулаком в ладонь, бормотал: «Вот именно вкупе с вашими дезодорантами весь этот веками слежавшийся букет ссак, сракк (мучительно хрипел), ххлоррки… (взмывал) невыносимо, как Ххирроссимма!»
Четверо в камере старались поддерживать бодрое настроение. Проснувшись, все принимали позу «сирхасана», то есть вставали на голову. Этот ритуал, собственно говоря, ввел в обиход сам узник Страто. Благородная медитация вверх ногами, думал он, в конце концов отвратит ребят от стукачества. Когда-нибудь один их них, а может быть, и все трое, выйдут из позы со слезами на глазах. Вот это и будет первый шаг к духовному возрождению.
Труднее всех было поддерживать медитацию стодесятикилограммовому Филу Фофаноффу. Перевернутая позиция почему-то настраивала его на смешливый лад, и он, не завершив еще йоговской гимнастики, начинал рассказывать анекдоты то о Ленине, то о Сталине, то о Хрущеве, ну и, разумеется, о Брежневе, об Андропове, о Горбачеве, о Ельцине, а то и о нынешней администрации. Неужели вот такой великолепный Гаргантюа может оказаться сексотом, думал Страто. Подозрения усиливались как раз тем, что гигант выходил из позы с совершенно мокрым лицом. Однако возможно ли такое: одновременно провоцировать и духовно возрождаться? Может быть, эта влага у него просто из подмышек натекла?
Смутные воспоминания приходили в голову Страто, когда он смотрел на двух других сокамерников, Алекса Корбаха и Игоря Велосипедова. Первый, казалось ему, вроде бы не должен находиться среди мирской суеты, тем более в следственном изоляторе. Ведь мы с ним вроде бы окончательно распрощались над пропитанной медом его двухтысячелетней копией в археологическом музее, не так ли? Нет, оказывается, жив курилка, дымит «Голуазом», испещряет поля еженедельника «АиФ», превращая каждое интервью в готовую для постановки пьесу. Что касается И.В., или просто Игоря, которому еще в 1983 году любимая девушка предрекла развал СССР, то остается только гадать, как он со своей застойной серьезностью мог снова оказаться в той самой тюряге, где провел лучшие годы.
Дни тянулись с монотонной тягомотиной и в то же время прощелкивали один за другим, как верстовые столбы на скоростной дороге. Допросы, или, как сейчас их стали именовать, «собеседования», вроде бы тормозили бесконечное пожирание времени, пока и они не превратились в тягомотину. Особенно удручало почти полное отсутствие неба с его метеодраматизмом. В принципе, вся четверка уже начинала подмечать в себе некоторые признаки деградации, вот почему все они жаждали в конце дня усесться вокруг стола и «расписать пулю». Карты все-таки рождали череду мелких неожиданностей.
Наконец лампа под потолком начинала мигать — сигнал к отбою. Узники укладывались и начинали вспоминать свои эротические приключения.
«…случайно я заметил номер комнаты той дамы из польской делегации, с которой познакомился на конференции. Вечером, основательно поддав в баре, я подошел к ее двери и повернул ручку. Дверь открылась. Она стояла возле раковины и мыла груди. Отменные маммарии, надо сказать, сущие дюгони! Я тут же вошел и стал этих дюгоней ласкать. Она не проронила ни слова. Только чуть-чуть стонала. Сначала я занимался с ней в классической позиции, а потом решил, что, если ее перевернуть, уд войдет глубже. Так и получилось, я не ошибся… Заверещала: проклятый, проклятый, любимый…»
«…ваш рассказ, сэр, напомнил мне один случай в Ялте, в гостинице „Ореанда“, только там получилось наоборот: я сам оказался жертвой вторжения. Однажды вечером на набережной я натолкнулся на киногруппу, которая снимала какую-то очередную „чеховиану“. В главной роли там была известная актриса, только что прилетевшая из Москвы. Была там и „собачка“, в данном случае огромный ньюфаундленд. Режиссером оказался мой старый приятель. Он познакомил меня с актрисой, а после съемок мы втроем отправились в ресторан. Все шло по волшебному киношному шаблону: Ялта, удары волн о парапет, массандровские вина, ресторанный джаз, влюбленный режиссер, кокетливая актриса, с понтом беспристрастный друг… Вскоре они перестали на меня обращать внимание, и я отправился спать. Ночью я проснулся словно от какого-то толчка. Мой номер был залит светом от садового фонаря, однако я лежал в тени, которую отбрасывала массивная статуя Ленина. Рядом с кроватью стояла актриса в своей изящной дубленочке. Заметив лежащую в ленинской тени мужскую фигуру, она сбросила дубленочку и оказалась полностью нагой. Нагой и основательно бухой. „Эдька, просыпайся, — сказала она хрипло, — снижаюсь на твой перпендикуляр…“ В процессе снижения она все-таки заметила ошибку. „Фу, черт, это не ты, ну да ладно, сажусь на ваш перпендикуляр, товарищ Как-вас-звать…“
«…а я вам расскажу, друзья, один любопытный случай проституции, клиентом которой мне пришлось оказаться. Я работал тогда заместителем главного редактора в одном большом издательстве. Однажды мы отмечали на работе День женской солидарности, или как его там, в общем, Восьмое марта. Столы стояли буквой „П“ в конференц-зале, и на дальнем конце одной из пэшных ног я заметил миленькую девчушку, явно не принадлежащую к числу сотрудниц. Смотрю, она мне подмигивает, и это при всей своей ультраневинной наружности. Я пожимаю плечами и показываю руками — дескать, никак не могу выбраться из-за этого стола. Тут ко мне кто-то лезет с тостом, и девчушка в этот момент пропадает из поля зрения. Экая жалость, думаю я, исчез такой симпатичный юный талантик. И вдруг через несколько минут я ощущаю, что чьи-то пальчики взяли меня за оба колена. Заглядываю под скатерть, а там внизу как раз и разместился юный талантик: оказывается, проскользнула под всем столом. „Товарищ Фофанофф, — шепчет она, — айдате в ваш кабинет, а?“ Как вы понимаете, упрашивать меня, молодого бюрократа, не пришлось.
В полутемном кабинете мы устроились с Людочкой на кожаном диване, который согласно легенде принадлежал еще наркомпросу Луначарскому. Стараясь не раздавить юницу своей массой, я все время держал ее на коленях. Помимо всего прочего она любезно предоставляла мне свои грудки; они находились как раз на уровне моего рта. По ходу всего действия она не переставала говорить мне о своем женихе. Он, оказывается, гениальный писатель, и она мечтает, ох, Фофаночка, уж так мечтаю, чтобы его роман благосклонно был прочитан в вашем издательстве. Конечно, Людочка, прочтем, обязательно прочтем, ободряю я ее; ну как можно не прочесть книгу гениального писателя. Проституция всякого рода меня всегда почему-то вдохновляла.
По завершении этого поистине отменного соития я все-таки сказал, что прохождение книги не только от меня зависит. «А вы напишите мне, Фофаночка, от кого еще это зависит, и подрисуйте там телефончики, лады?» Я написал на клочке несколько имен, и она, совершенно счастливая, выпорхнула из кабинета. Жениховская книга, конечно, вышла у нас приличным тиражом и получила премию имени Ленинского Комсомола…»
В таком духе еженощно проходило накопление тюремного Декамерона. Увы, всякий раз оно ограничивалось только тремя новеллами. Четвертый потенциальный автор почему-то в этом творчестве не участвовал. «Какого черта, Ген, почему вы-то отмалчиваетесь?» — как-то раз спросил его Корбах.
Ген! Ура! Наконец-то я вспомнил его полное имя! Ген Стратов! Как я мог его забыть? Ведь именно из этих слогов возникло несколько чуть-чуть более продолжительное имя моего юного героя тридцати-с-чем-то-летней давности!
«Ничего не могу к этому добавить», — сухо отвечал Ген Стратов своим сокамерникам и замолкал до утра. И все замолкали вслед за этим молчанием. И каждый наконец-то оставался в одиночестве. Каждый думал о своем собственном прошлом и отгонял мысли о будущем. Не проходило, конечно, ни одной ночи, чтобы у каждого не мелькала неизбежная мысль: а кто все-таки в нашей компании стучит? И неужели все трое раскалывают одного меня? Объективности ради скажем сразу, что среди этих четверых не было ни одного осведомителя. Осведомлял майора Блажного только невидимый паучок «Мицуоки», вмонтированный за санитарной выгородкой в бачок унитаза. Для привилегированных следственных тюрем, вроде «Фортеции», Прокуренция не скупилась на фирменные приборы.