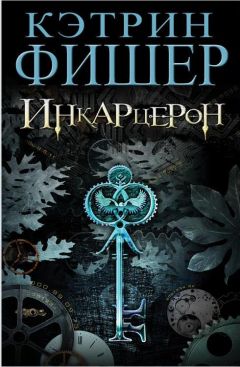Не успел я до конца припомнить свою борьбу за магнолию, то есть не прошло и секунды, как сороки с шумным шухером вылетели из ее ветвей и почти вертикально взмыли в закатное небо. В последний миг перед тем, как они исчезли, я заметил в клювах у двух из этих мерзавок мои солнечные очки. А я-то столько времени искал их по всему дому!
Эти очки я купил пару лет назад за 150 американских долларов в одном из бутиков вашингтонского даунтауна. Редкая модель, так называемые goggles, они закрывали не только глаза, но и боковые поверхности кожи вокруг глаз. Массивная оправа напоминала то, что когда-то, ну, скажем, в сороковые годы, называлось «роговыми очками». Во Франции хрен найдешь такую штуку. Иногда мне казалось, что французы, особенно люди пожилого возраста, по этим очкам узнают во мне американца. Нынче по всему миру распространилось мнение, что французы недолюбливают американцев. Мне кажется, что это лажа. Из всех цивилизованных наций только французы сохранили какую-то особую тягу к янки, и больше всего к тем полумифическим, спрыгнувшим с неба, янки сороковых годов. Стоит только где-нибудь на площади в курортный сезон зазвучать свингу, как французы выскакивают из своих кафе и начинают по всем правилам, со всей нужной хореографией отчебучивать эти лихие танцы, как это происходило в 1944 году, в дни освобождения Парижа.
А возьмите тот же сёрфинг: ведь это именно американцы тех лет внедрили нелегкую забаву на французских пляжах. Ну, и разумеется, уж если они увидят кого-нибудь в очках-лупоглазах, тут же вообразят каких-нибудь американцев в кокпите «летающей крепости», идущей на нацистскую цель. Короче говоря, мне нравилось ходить в этих очках, и вдруг они пропали.
День за днем я ходил по своим комнатам и искал очки. Проклятые вещи — то и дело пропадают. Сколько раз я убеждался в том, что нельзя их искать и без толку тратить на поиски уйму времени. Когда захотят, тогда и выскочат на поверхность, сделав вид, что они тут всегда лежали.
Вещи — такие сволочи,
Прячутся по квартире,
Скалятся, гады, по-волчьи
Над хозяином с его артритом.
Исчезают щетки для волос, беговые туфли, диски, на которые грузишь свои «бэкапы», пульты для телевизора и для плейеров, летом шорты, зимой шерстяные штаны, визитные карточки нужных персон, книжка «Речевые формулы французского языка», баскетбольный мяч, черт знает что еще, солнечные очки-лупоглазы…
Затаилась где-то отвертка,
Мобильник, блин, будто врос в кирпич,
А ведь лежал под пропавшей журнальной версткой;
Звонят как будто бы из Керчи.
Ходишь полдня по своим небольшим комнатам, взъяряешься от тщеты. Дом взъяряется на тебя, за спиной у тебя — а иногда и прямо перед носом — стучат, хлопают все двадцать три двери: кто, кто построил этот дом с таким количеством дверей, неужели тихонькая мадам Лафон, у которой этот дом и был куплен, неужели она сама была сторонницей сквозняков как окончательных аргументов в спорах с муженьком, когда по дому одна за другой с яростью захлопываются все двадцать три двери?
Иногда мне кажется, что дом злится не столько на меня, сколько на попрятавшиеся вещи. Перетряхивая стены и двери, дом как бы подключается к поискам. Трахтарарах, из двух кухонных дверей вылетают ручки, сами по себе куда-то к эвонноэвве закатываются, сотрясается холодильник, ты бросаешься к нему, чтобы проверить, не разбилась ли крынка с молоком, — нет, ничего не разбилось, больше того, в прохладной полости тебя поджидает приятный сюрприз: в пространстве между упаковкой «Стеллы Артуа» и коробкой сардин внезапно обнаруживается то, что давно уже бросил искать, ну тот самый, что изредка подавал какие-то слабенькие сигнальчики как будто бы из Керчи, ну, в общем, мобильный блядский телефон. Какой приходит тут восторг, как преображается мир! Из провонявших всяким вздором абсурдностей вдруг выходит некий мир-друг, ободряет тебя хлопком по плечу: давай открывай баночку «Стеллы» и звони какой-нибудь совсем забытой, совсем состарившейся Стелле Артюхиной в Керчь, выходи на террасу, шлепайся в шезлонг, затевай долгую беседу с воспоминаниями. Керчь, Керчь, не началась ли там у вас война, мадам? По-прежнему ли хлопает в набережную ваш лишь капельку замусоренный прибой? Мадам Керчь, а вы по-прежнему вспоминаете о ваших жарких ночах, о грезах с примесью большевистской идеологии? Ах, как приятно найти потерявшийся телефон-портабль!
Иногда мне кажется, что мои предметы недвижимости противоборствуют предметам движимости в их постоянных стремлениях спрятаться, разбрестись, причинить зло хозяину. Ну вот опять же, те же злокозненные очки-goggles: потеряны месяц назад, казалось бы, безвозвратно, однако ты их все же как-то подсознательно ищешь, бросаешь то туда, то сюда полубессознательные взглядики — а вдруг вот сейчас обнаружатся, сверкнут на солнце, пропищат на манер телефончика какой-нибудь знакомый мотивчик?
Магнолия не хочет, чтобы ты так без конца маялся. Ей дорого твое достоинство. Именно поэтому она заманивает в свои ветви двух сорок. Присаживайтесь, госпожи воровки, на мои великолепные ветви! Суетные щеголихи, разумеется, не отказываются от приглашения, и именно в этот момент магнолия приглашает появившегося хозяина заглянуть глубоко в ее щедрую макушку. Проходит еще один миг, и птицы с ворованным предметом хозяйского обихода, то есть с очками-лупоглазами, взмывают в поднебесье. Хотите верьте, хотите нет, несут их вдвоем, каждая за свою дужку. Растворяются в океанском закате.
О, твари подлые, сороки!
О, клептоманик уазо!
Пусть заклеймят вас эти строки
Замысловатостью резьбы!
Спасибо, магнолия, теперь хотя бы можно исключить очки из круга спрятавшихся вещей. Наконец-то и я добрался до своего «Мака». Ни дня без строчки, — талдычу я себе, — кто отец этой зернистой идеи, Стендаль или Олеша? — ни дня без какой-нибудь, пусть хоть самой завалященькой строчки. Ни ночи без строчки — это мое. И записываю: «Таков и наш комсомол; выросший на корявых стволах идеологии, он все-таки умудрился взрастить на своей плешке шапочку благих побуждений». Да ведь где-то уже промелькнули эти «благие побуждения»… И засыпаю под умиротворяющий гул Резевуара. Во сне вопрошаю свой туманный замысел: «При чем тут комсомол? Какое отношение он и все эти его румяные лгуны имеют к моим предроманным блужданиям? Почему в компьютере появляются современные фигуры всяких там сёрферов, французов, загадочного юнца-англичанина, не похожего на Ахилла Ника Оризона, бразильского индейца Вальехо Нагана, почему в мыслях я все время возвращаюсь к „верному помощнику партии“, Ленинскому комсомолу, о котором сейчас никто не имеет ни малейшего понятия?»
III. Узник краснознаменного изолятора
Приснилось странное. Оказывается, в московской тюрьме «Фортеция» вот уже несколько месяцев томится некий господин сорока с чем-то лет, имеющий какое-то отношение к нашему роману. Имени его мы пока не знаем, а потому будем его называть просто Узником. Неведома нам пока и суть дела, по которому замели этого нестарого еще человека с жестковатыми чертами лица. Судя по тому, как он себя держит в узилище, а держит он себя довольно независимо и гордо, можно принять его за «узника совести», однако по тому, с каким почтением к нему относится стража, этого не скажешь. Может быть, какой-нибудь «авторитет» перед нами? Вряд ли: ботинки на босу ногу не носит, на фене не ботает, наглостью какой-либо стопроцентно не отличается, а самое главное — никакой российский пахан не полез бы в тамарисковый парк, ему тут нечего делать. Что же остается, ведь не допытываться же у тюремщиков, что за человече.
Тюремщики, надо сказать, сами смотрят на Узника с недоумением: чего он так мается, чего чахнет, когда мог бы просто отдыхать под эгидой индивидуальной системы привилегий? Питание в камере получает по формату +3000 калорий. Два раза в неделю может даже полакомиться фирменной солянкой, которую готовит для «элитного контингента» Жан-Поль БлюдО из французских правонарушителей. Располагает также собственным холодильником, где держит свои минводы и гастрономические деликатесы из «Седьмого континента». В камеру к нему подсажены три интеллигента, с которыми по вечерам можно расписать «пулю». В библиотеке раз в неделю может набрать себе книг лучших авторов: ну, скажем, Ольговеры Марьинорощинской, Акуленины Ознобищиной, Оригиналы Спасотерлецкой. А самая главная привилегия состоит в том, что в утренние часы Узник может уединяться в салоне комсостава, официально как бы для ознакомления со своим делом, а нормально: чем хочешь, тем и дрочись — хоть пестуй новую схему для обмана народонаселения (какая еще схема, при чем тут народонаселение?), хоть эротически расслабляйся с соответствующей кассеткой. Нет, Узник упорно продолжает маяться. Иногда часами сидит без движения, уставившись в неустановленный угол мироздания, как будто видит там что-то еще, кроме толстого, как блин, слоя паутины. Иногда за целый день не произносит ни одного наукоемкого слова, одни только отговорки вроде «благодарю», «нет, не нужно», ну там чего-то более человеческого, вроде «идите на хер»; всё на «вы».