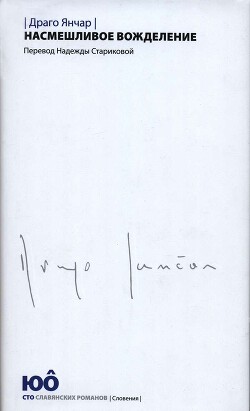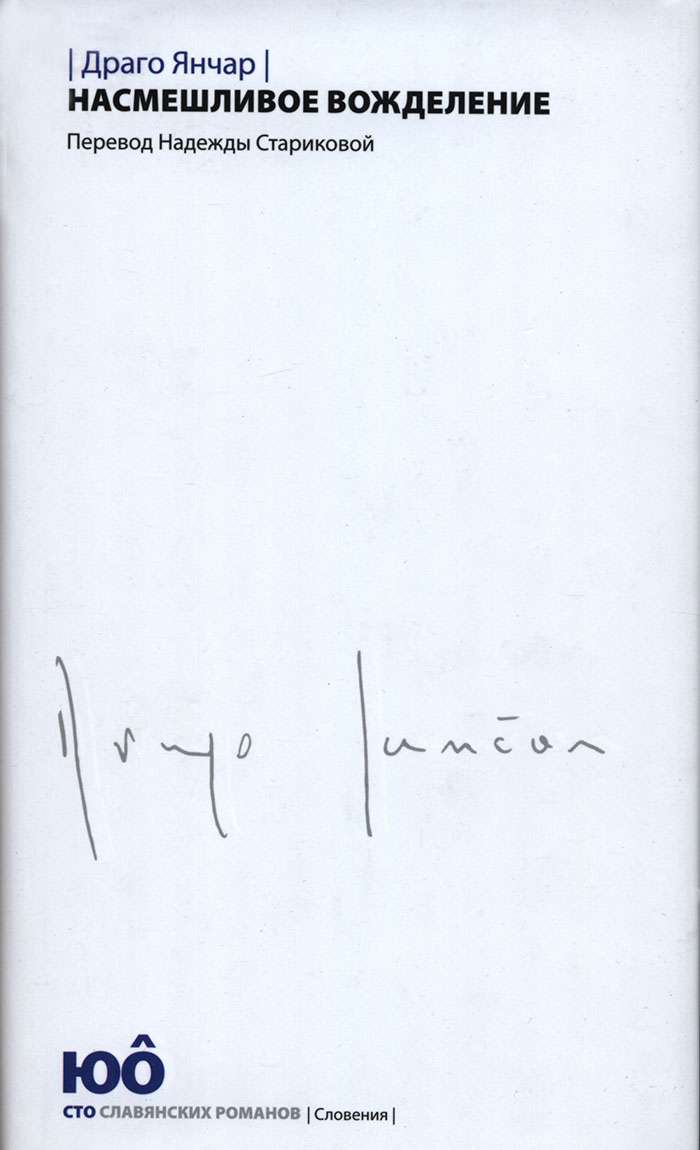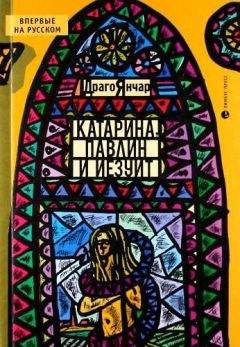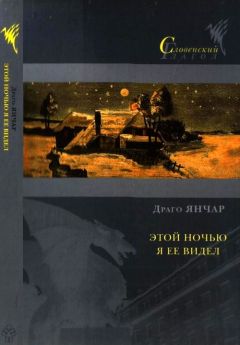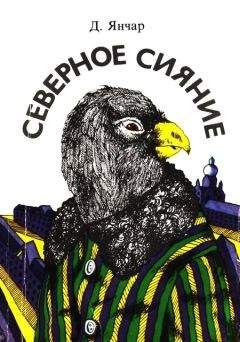То же самое. Но сбалансированно.
На обратном пути Фред и Мэри сидели на заднем сиденье. Известный профессор здешнего известного университета пререкался с женой о жильцах-арендаторах, которых он не может просто так выселить, он же не какой-то, извините, еврей-скупердяй. Далекие предки Фреда Блауманна были евреями, поэтому Фред имел право так сказать. Даймонд был за рулем и радовался появлению каждой велосипедной дорожки вдоль трассы. Ирэн сидела посередине и рассказывала о последнем случае изнасилования, который рассматривали в суде. Мужчина вломился в спальню женщины через окно, когда муж находился в командировке в Аризоне. Приставил ей нож к горлу. Пять лет — мягкое наказание для такого человека. Хотя машина была большой, втроем на переднем сиденье было тесновато. Ирэн сидела между Питером и Грегором, рассказывала о суде над циничным преступником. Грегор следил за мелькающим справа пейзажем, думая о ее горячем бедре под тонкой тканью, к которому все время невольно прикасался. Внутренний баланс молекул несколько раз нарушался. Каждый раз, когда это происходило, Питер Даймонд ударял по приборной доске, от чего стрелка на счетчике пробега неизменно странно колебалась, подобно магнитной стрелке компаса, качающейся между полюсами.
Глава седьмая
СЛАВЯНСКАЯ ДУША И ИСКУСИТЕЛЬ
1
Магнитная стрелка раскачивалась между полюсами, между смехом и печалью. Неустойчивый, хрупкий баланс был нарушен.
В стране был издан тайный указ: никакой печали, жизнь прекрасна. Смех вырывался из глоток, выплескивался из динамиков.
В автобус ввалились шумные студенты. Молодой, невообразимо толстый, чернокожий, поворачиваясь к кому-то на заднем сиденье, орет прямо Грегору в ухо. — Как сам? Ништяк. Красава! — Смех. — Бог не любит, когда морда кирпичом [8]. — Смех. — Я большой, а ты малявка. — Смех. В ответ получает: Моча в голову ударила. Гогот. Как совру, так помру. — Смех, — devotio moderna, новое благочестие. — Когда шучу, тогда торчу [9]. — Весь автобус ржет, прямо сотрясается от хохота. Как прекрасны плачущие люди, — подумал Грегор Градник, — компьютер Блауманна наполнен плачем, тоской зеленой. А эти ржут. Вся эта часть мира ржет как подорванная, до слез, отчаянный хохот для здорового сердца. Смех наводнил континент.
Он брел по аудиториям, пошатываясь, брел по Бурбон-стрит. В этом городе чернокожие играли на похоронах джаз и хохотали. Хохотал Питер Даймонд, смеялась Ирэн Андерсон, Дебби смеялась, не останавливаясь. Как выяснил Гамбо, смеялись они неправильно, смеялись по указке, по установке на оптимизм. Тот, кто хотел заплакать, должен был спрятаться и запереть за собой дверь. Слезы на этом континенте запрещены. Хохотали по телевизору, ржали по радио. Утром хихиканье, вечером хохот. Смеялись на пару Дьявол и Бог. Печаль была безжалостно изгнана из этой жизни. Во Французском квартале, где не замолкало эхо адских взрывов хохота, печаль забилась в самые потайные закоулки.
2
За роялем в «Лафитте» сидит старая дама и наигрывает французский шансон. Толстый слой пудры покрывает глубокие морщинистые складки лица. Пудра абсолютно белая, лицо белое, платье черное. Каждый вечер она наигрывает французский шансон. Это Леди Лили. Весь Французский квартал ее знает, Грегор Градник не исключение. На курсах креативного письма ему сдали краткое эссе, посвященное ей, набросок впечатления, исповедь автора. Исповедующийся написал, что по залу разливалось половодье славянской души. Леди Лили русская. Иногда для Романа Попеску она исполняла русскую песню, и его румынская душа ликовала, она ведь почти славянская. Вокруг большого рояля расставлены барные стулья. Здесь устраиваются туристы, и тогда Леди Лили должна петь им «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Впрочем, этот Нью-Йорк так же далек, как русские степи, и туристы тоже чувствуют, что такое славянская душа. Петь без души Леди Лили не умеет.
В воскресенье вечером, после поездки на болота, небольшой бар пуст. В разгар вселенского веселья во Французском квартале здесь всего три славянские души. И официант, который, укрывшись за барной стойкой, читает спортивную газету. Леди Лили время от времени что-то наигрывает на рояле и вполголоса напевает. Играть она должна, чтобы привлечь гостей. Но никто не появляется. Луиза Димитровна Кордачова потягивает через соломинку коктейль «Карибское солнце» и изредка смахивает слезу. Луиза тоже сидит здесь каждый вечер. Она официантка, работает в кафе на берегу реки и весь день должна смеяться, улыбаться и хихикать. Поэтому по вечерам она сидит в «Лафитте» и слушает Леди Лили. Здесь слезы не запрещены. Луиза Димитровна Кордачова чувствует в Леди Лили то, к чему смог приблизиться только тот автор исповеди, слушатель университетского курса. Она потягивает коктейль, смахивает слезу и размышляет вслух:
«Леди Лили оттуда, откуда мои dad и mum. Ну, может, не совсем оттуда, это же огромная, невероятно огромная страна, даже больше Америки. Безбрежные поля и хлеба. Плавают по широким рекам и играют на гармони. Похоже на Каджун Кантри, но немного по-другому, тише. Белые свечи зажигают в черной церкви целыми связками. Букеты из тонких желтых свечей. Вечером читают романы. Девушки бледные и трепетные. Чтобы поправить здоровье, ездят на месяц в деревню. И там все равно плачут о ком-то, оставшемся в Москве. Они рвутся в Москву. А в Москве танцуют под огромными люстрами. Леди Лили была там, когда еще танцевали под огромными люстрами. На ней было белое платье, она мне рассказала. — Вот бы мне вернуться туда: здесь ведь только выпить и посмеяться. Но как я могу вернуться, я же родилась здесь, в Луисвилле, штат Кентукки. Девушки в той стране печальны не потому, что они бедные или их бросили. А потому что всем нравится грустить. Им вообще можно не смеяться».
В воскресенье ночью бар тоскливо пуст. Никто не смеется. Грегор Градник утешает Луизу Димитровну Кордачову.
«Неужели смеяться так тяжело?»
«Правда, тяжело. Очень».
И слеза капает в «Карибское солнце». Время близится к полуночи, взглянув в зеркало, он вдруг видит там кого-то другого. Картину Иеронима Босха, на которой искуситель, подкравшись сзади к испуганной девушке, шепчет ей что-то на ухо.
3
Из компьютера Блауманна:
«„У меня нет уст, — пишет один французский поэт пятнадцатого века, — у меня нет уст, которые могли бы смеяться так, чтобы очи этого не отвергали. Видишь, я хочу отказаться от сердца, полного слез, текущих из моих очей“. Печаль, слезы, воздержанность в некоторые эпохи истории человечества были не только знаками превосходства, высоких чувств, утонченности, но и моделью культурной жизни. Когда именно смех и озорство проникли в сферу высокой духовности и начали пользоваться пиететом, неясно. Печальные любовники, нежная непосредственная женственность, бледные возлюбленные, трогательные глаза заплаканных дев всегда были признаками благородного происхождения. Смех и дикая разнузданность — приметы ярмарочной суеты, грубых деревенских потех, портовых кабаков. Й. Хёйзинга замечает, что печальное отношение к миру в свое время стало главным компонентом европейского образа жизни. Devotio moderna, новое благочестие. Посвященных можно было узнать по спокойным тихим движениям, смиренной поступи. Благочестие — это своеобразная нежность сердца, при которой кому-то легко раствориться в слезах. Fuerunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte. Перевод: Мои слезы были моим хлебом днем и ночью. Современники пишут о некоем Винсенте Феррера: „Он так рыдал, что все рыдали вместе с ним. Плач был такой его страстью, что он редко сдерживал слезы“».