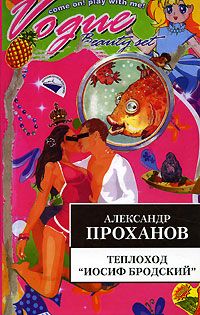— Я послал в подарок президенту Ющенко большой калькулятор, переводящий гривны в доллары.
— Как вы оцениваете обращение Президента Беларуси Лукашенко с оппозицией?
— Оппозицию нужно любить и лелеять и никогда не обременять властью.
— Что пожелаете нашим счастливым молодоженам?
— Крепкая семья — залог сильного государства..
— Вы остаетесь на третий срок?
— По этому поводу я сделаю сейчас специальное заявление.
Президент Парфирий пригласил в оранжевый круг Куприянова и посла Соединенных Штатов Александра Киршбоу и, улыбаясь в телекамеры, произнес:
— Конституция — это «символ веры» нашей демократии. Ее соблюдение — религия новой демократической России. Я присягал на Конституции и стану свято ее соблюдать. Поэтому третий срок президентства абсолютно для меня исключен. Я сделал все, что мог для нашей любимой Родины, и готов передать полномочия достойному человеку. — Он взглянул на Куприянова, и тот скромно потупился, предлагая публике не принимать сделанный Президентом намек на его счет. — Не сомневаюсь, новый, избранный народом Президент продолжит политику демократических преобразований, совершит дальнейший прорыв в деле возрождения нашей России, используя для этого прорыва все самые передовые достижения мировой цивилизации, в том числе и те, которые только пробивают себе дорогу на Западе. Россия останется верным другом Соединенных Штатов. — Он взглянул на посла Киршбоу, и тот, полный достоинства, поклонился. — Мы вместе примем вызовы наступающей эпохи, среди которых «международный терроризм» — далеко не единственный. Меня могут упрекнуть, что во времена моего президентства меня не всегда окружали достойные люди. Но полная смена кабинета, Администрации, аппарата, сопутствующая выборам Первого Лица, позволит новому хозяину Кремля собрать для себя наилучшую команду, с помощью которой он поведет Россию курсом прогресса и преуспевания! — Собравшиеся мельком взглянули на Есаула, и тот испытал презрительную иронию отторжения.
«Предатель!.. — проносилось в его голове. — Чекистский изменник!.. Они всегда кидали нас на минные поля, а потом наводили на нас авиацию и артиллерию!.. Ненавижу!..»
Журналисты вновь устремились к Президенту с вопросами. Но тот, мило улыбаясь, произнес:
— Уважаемые дамы и господа, у нас еще будет время обменяться мнениями. Сейчас же я предпочел бы завершить пресс-конференцию. Мне необходимо уединиться с господином Киршбоу и обсудить ряд вопросов. Оставляю в ваше полное распоряжение Аркадия Трофимовича Куприянова. — Он обнял одной рукой Куприянова, а другой — посла Киршбоу. Так они стояли под телекамерами, вспышками фотоаппаратов, чтобы уже к вечеру украсить своей непринужденной «троицей» первые страницы газет, кадры новостных передач.
Вместе с Киршбоу президент удалился в свою каюту. А Куприянов, как медоносный цветок в саду, облепленный бабочками, шмелями, пчелами и разноцветными мухами, стал охотно и многоречиво отвечать на вопросы.
К Есаулу не подходил никто. Только чернявенький, насмешливый журналисток из третьесортной газеты подскочил и, шепелявя, спросил:
— Господин Есаул, а вы бывали когда-нибудь в Гааге?
Не удостоив гниду ответом, Есаул удалился.
Вечером, когда угасала длинная летняя заря и теплоход плыл в мягких сумерках огромного, похожего на море озера, в салон для куренья сошлись Президент Парфирий и утомленный переговорами посол Киршбоу, элегантный и меланхоличный Савл Зайсман, неразлучная супружеская пара Луиза Кипчак и Франц Малютка, томный и снисходительный Куприянов и Есаул, исполненный чуткого ожидания. Оставили у порога обувь. Улеглись на полу среди персидских ковров, узорных подушек, полосатых турецких мутак. Служители в облачении сарацинов вносили кальяны, ставили перед курильщиками. Молча возжигали благовонные табаки, куда замешивались наркотические травы, маковые смеси, конопляная пыль. Было сладко вдыхать вкусный дым, глядя, как стеклянные колбы — зеленые, голубые, нежно-алые — наполняются плавающими завитками, как медленно булькает вода, пропуская мутно-серебряные пузыри, как тлеет и разгорается от вдохов алый уголь и жадные губы соседа сосут костяной мундштук и его глаза наполняются дивным безумием. Узоры восточного ковра вдруг вспыхивали разноцветно, серебряная нить на подушке начинала сверкать и струиться, и казалось, в комнату залетела лучистая звезда и встала, разбрызгивая серебряный хвост, — манит, зовет, и ты, становясь бестелесным, превращаешься в сияющий дух, готов вспорхнуть и поплыть за звездой в манящие, беспредельные миры.
— Господа, — Савл Зайсман, медленно поводя невидящими, в наркотической поволоке глазами, выпустил облачко дыма, напоминавшее маленькую голову льва, которая стала разрастаться, занимая пространство комнаты, разевала пасть, высовывала влажный красный язык. — Не поиграть ли нам в увлекательную игру? Пусть каждый расскажет историю, которая изменила его жизнь. Сейчас мы опьянены, сознание свободно от условностей. Поведаем друг другу наши сокровенные тайны.
— Я не прочь. — Президент Парфирий водил в воздухе изящной рукой, стараясь уловить голубой завиток дыма, а тот струился меж пальцев, превращаясь то в лазурную бабочку, то в перламутровую парящую раковину. — Кто начнет?
— Мы предоставим это право прекрасной Луизе, в чьей судьбе произошел неведомый нам перелом, сделавшей ее жрицей любви. — Савл Зайсман сжал губы трубочкой, воображая себя птицей колибри, которая вьется над прекрасным цветком. — Вам слово, несравненная!
Луиза Кипчак не сразу откликнулась на предложение. Ее суженый Франц Малютка опьянел от комочка гашиша, тлеющего в кальяне. Рубаха на груди расстегнулась, серебряный крест съехал на сторону. Он закатил глаза, воображая себя синим озером, расположенным высоко в Тибете, на берегу которого стоит забытый монахами кувшин. Пользуясь отрешенностью мужа, супруга незаметно протянула босую ногу в сторону Куприянова, нащупала гибкими пальцами его ширинку и неторопливо расстегивала пуговицы, старательно пробираясь внутрь. Куприянову казалось, что он плывет по серебристой лагуне, над пальмами сияет луна и невидимая рыба ласкает ему пах и живот.
— Я согласна, — отозвалась на приглашение Луиза Кипчак, расстегивая последнюю неподатливую пуговицу и касаясь пальчиками того, что так тщательно скрывал Куприянов. — Это случилось со мной в девичестве, в ту волшебную пору, когда любовь присылает своих гонцов, но они не переступают порог твоей опочивальни и издалека снимают шляпу. Однажды, белой петербургской ночью, я не могла уснуть. Под подушкой у меня лежал журнал «Плейбой», который я взяла у папы из потайного ящика. Я услышала в гостиной какой-то шум, звуки рояля, сдавленные крики. Босая, в ночной рубашке, поднялась, вышла в коридор и заглянула в замочную скважину нашей великолепной двери, ведущей в гостиную, которую папа привез из средневекового английского замка. Моим глазам предстала поразительная картина. Папа, голый, в буденовке, на которой красовалась красная звезда, стоял на четвереньках. Перед ним находился обруч, охваченный по всей окружности пламенем. Мама, тоже обнаженная, в парижской соломенной шляпке, стояла рядом и щелкала бичом. Папин шофер, тоже без всякой одежды, сидел за роялем и играл, Брамса. Мама вскрикивала: «Алле-гоп!» Папа отталкивался от паркета и нырял в горящий обруч, а мама успевала хлестнуть его по ягодицам. Папа на четвереньках подбегал к маме и целовал ей руку. Мама кидала ему на пол кусочек докторской колбасы, и пока папа ел прямо с пола, мама садилась на колени к шоферу, и они начинали играть в четыре руки. Вот тогда, глядя в замочную скважину, я впервые поняла, что любовь имеет множество удивительных проявлений. И я решила стать «жрицей любви». Удалось ли это, не мне судить.
Она умолкла. Шевелила гибкими пальчиками в брюках у Куприянова. А тому казалось, что он — Уин-стон Черчилль, у него между ног торчит гаванская сигара и на ней золотится изящный фирменный ярлычок.
— Благодарим вас, восхитительная Луиза, — произнес Савл Зайсман, отгоняя слоистое облачко дыма, которое напоминало летящего фламинго, превратилось в дамскую туфлю с хрустальными крылышками, а затем в хохочущий рот, уплывающий в дальний угол комнаты. — Ваша история через тысячу лет всплывет в рассказе какого-нибудь мечтателя, и он не будет знать, как она залетела в его память. А теперь пусть расскажет наш замечательный друг, счастливый супруг Франц Малютка. Франц, дорогой, что круто изменило всю твою жизнь?
Франц Малютка, накурившись, чувствовал любовь ко всем возлежащим на персидских коврах. Особенно к своей строптивой, но такой беззащитной, такой уязвимой жене. Бедняжка босая, на лютом морозе, среди сверкающих льдов, пытаясь спастись, прятала босые стопы в стоге мерзлого сена. Сено не грело, кололо милые пальчики. К тому же в стоге обитали мыши, тушканчики и морские свинки, и одна из них, большая и мерзкая, вдруг высунула наружу свою розовую раздраженную мордочку.