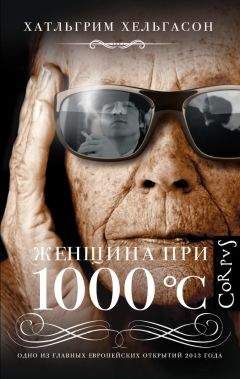Свет не видал ребенка прекраснее, чем Блоумэй Бенитес. Как будто внутренней красоте ее отца позволили без помех соткать себе внешний облик. Я всегда старалась нарядить девочку, как куколку, хотя у меня самой не было денег даже на дырявое платье. Когда итальянки из Боки видели, как я веду ее по тротуару, они кивали не мне, а ей. Она принадлежала другому миру. А со временем она обещала принести нам 300 гектаров земли и 3000 голов рогатого скота.
Первого мая супруги Пероны объявили грандиозный митинг на открытом воздухе. Улицы заполнились народом. Мы с Хуаном и с маленькой Блоумэй в коляске попробовали протиснуться на центральную площадь в надежде лицезреть наших героев, но туда было не протолкнуться. Мы сели в уличном баре в узком переулке и стали впивать в себя атмосферу, не похожую ни на что из того, что мне доводилось видеть. Несмотря на зиму, погода была мягкой, в небе стояло солнце, и все лица излучали радость, – не в последнюю очередь лица женщин, чьим кумиром была супруга президента. Про Эву Перон можно говорить всякое, однако именно она инициировала важную перемену: сейчас женщины Страны Серебряной впервые получили право голоса. А сама она разъезжала по городу в открытом автомобиле и махала толпе, накачанная лекарствами, с опорным корсетом под пальто. Она страдала от болезни и умерла всего через три месяца, тридцати трех лет от роду.
К нам примкнули друзья Хуана, и на тротуаре образовалась веселая компания. Ребенок бродил меж столиков, крошил багет, пил предложенную газировку и подружился с сыном хозяев заведения, молодым пареньком. Я не волновалась за нее. Как и большинство улиц в центре города, этот переулок был запружен народом, машин не было. Но едва на центральной площади, Plaza de Mayo, зазвучали речи, этот переулок стал пустеть: все начинали тесниться на проспекты, ведущие к площади. Голос первого оратора гремел над крышами, а внизу, на тротуаре, сидели мы, байресская молодежь, весело болтали, смеялись и курили.
Один из друзей Хуана оказался поэтом – скрытым юмористом, желтозубым, знавшим много интересных историй. Я следила за Блоумэй, которая заползла под соседний столик и потянулась за лежащей на тротуаре листовкой. Затем она гордо поднялась и показала ее хозяйскому сыну, который уже сделал из одной такой листовки самолетик. Я заметила, что у девочки испачкано личико – кто-то угощал ее шоколадом. Я позвала ее, чтобы вытереть ей лицо, но тут ее окликнул хозяйский сын. И она со всех ног понеслась к нему. Они побежали прямо через дорогу: бумажный самолетик лежал на противоположном тротуаре. Я крикнула Блоумэй, чтоб она не бегала по дороге, но Хуан сказал мне, мол, расслабься, здесь нет машин. Хозяин, человек с пузцом и улыбкой в усах, стоявший в открытых дверях, услышал наш разговор:
«Не волнуйтесь. Наш сын тут вырос, он всегда ведет себя осторожно».
Над его головой была вывеска – золотым по зеленому название места: Café de Flores.
Тут послышался ликующий рев толпы, а потом заговорил президент. Перон был мощным оратором с мужественным голосом. Мой Кальдерюк обожал его, но сейчас не смел это афишировать. Ведь здесь, в кругу насмешливых друзей, быть перонистом считалась нехорошо. И они, видимо, не знали, что под рубашкой он так и оставался «безрубашечником», descamisado, и улыбались тому, как он гремел на весь квартал, и говорили, что El Líder многое перенял от Муссолини. Поэт даже принялся рассказывать о Пероне некрасивую историю. Не важно, была ли она правдивой, преувеличенной или выдуманной, но было смешно. Хуан поправил свой берет и развалился на стуле, умильный от вина, но беспокойный на вид. И вдруг он начал меня раздражать. Все, что он говорил мне дома, пропало без следа.
Блоумэй подошла ко мне, она уже выучила название новой игрушки: avión de papel[276]. Я успела вытереть ей рот, но из-за этого пропустила одну из острот в рассказе поэта. Тут она нашла еще листовку и попросила меня сделать из нее еще один самолетик. Этим занялся Хуан, довольный, что ему больше не приходится слушать рассказ про президента, трясущимися руками сложил бумагу. А потом он, по глупости, поспешил пустить самолетик на дорогу, а я прикусила язык. Блоумэй поскакала за ним и попробовала пустить его обратно к нам, но самолетик приземлился на нос.
Перон завершил речь, и по площадям и дворам разнеслись ликующие крики. А потом как будто в каждом углу родился ветер. Трудно описать, но по кварталу, улице, городу, прокатился наэлектризованный поток предвкушения. В баре кто-то включил радио, диктор произнес имя супруги президента, повторенное, как эхом, каждыми губами, до самого тротуара. «Она сейчас будет говорить». Даже Хуан с друзьями сменили насмешливость на своего рода почтительное выражение. «А может, все-таки послушаем ее?» – сказал один из них. Я посмотрела Кальдерюку в глаза и увидела, что сидит он здесь с пустым карманом. Я резко встала, с наигранной гордостью заявила, что плачу за все, и заскочила в глубину бара. Шесть месяцев спустя после Рождества у меня все еще оставалось немного тех денег, которые в сочельник принесла в нашу лачугу черепаха Марта.
Едва я дошла до стойки бара, как услышала за спиной стук: шум мотора на улице и этот жуткий стук. Я обернулась и на мгновение ослепла. Прошло несколько мгновений, прежде чем в темном баре проявилась залитая солнцем картина: столики, тротуар и улица. И тогда я увидела посреди этой картины автомобиль, американскую легковую машину. Из нее только что вышел человек в светлой шляпе. Я поспешила вон из бара, заметила, что Хуан наклоняется над чем-то перед машиной, и моим глазам предстало то, что я с той поры видела каждый день всегда и везде: мою девочку на асфальте и поток из ее головы, блестящий на солнце, а улыбки уже нет. Это тяжелее всего: видеть выражение лица ребенка, которому еще нет и двух лет, но который уже встретил Творца: лишенное страха, серьезное, почтительное. Она была уже в другом мире.
Я тотчас отпихнула Хуана, склонилась над ребенком – и душа моя и разум помрачились. Поэт, его друг, склонился над маленькой ручонкой и покачал головой, Хуан обнял меня сзади, и последнее, что я видела, был бампер той машины. Блестящий хромированный американский бампер. Солнце сверкало на нем, а тени людей вытягивались. Справа от номера машины я заметила множество крошечных темных капель, искрящихся на солнце, напоминающих сотню мелких островков в широком фьорде. Я поспешно принялась искать среди них тот, который был знаком мне лучше всего, на котором все еще жила бабушка, но я умерла, прежде чем мне это удалось…
Я вновь родилась только через два месяца. Для новой жизни, не такой, как раньше. Жизни номер семь.
Эх, зараза, встать, что ли? Вверх, вверх, развалина моя! Не могу больше валяться в постели! Только, пожалуй, на своих ногах я отсюда не выйду, хотя после смерти, вроде, болезней не бывает – одна сплошная бодрость? У нас дома живущие в утесах альвы были настоящими атлетами и поздно по вечерам рьяно брались за работу на ночных пастбищах Исландии. Обалдеть: прошлой ночью мне приснился фюрер с поднятой рукой, длиннопалый на камне, на причале у нас на Свепноу, гремящий над водорослевыми берегами.
А вот и она, родимая, входит с дневного света в мой разум – Лова собственной персоной, а с собой она притащила моего законного сына, Оболтуса Диванного. Магнус, это ты?
«Да. Как ты?»
Ах, он пришел попрощаться.
«Мне немного осталось».
«Что?»
«Мне немного осталось».
«Да».
«А все из-за Гитлера».
«Что ты сказала» – вновь переспрашивает он. Я стала очень плохо видеть. Мне уже альвы в очередях являются и требуют бутылки. Когда же придет великий Ржа? Эх, легкозимье мое да лихолетье… Требую ноты и новую музыку.
«Это все из-за Гитлера. Это он виноват в том, как…»
И тут подступил кашель.
«Ах, сейчас мне придет полный шахматец: они все требуют бутылки… бутылки…»
«Мама?»
И тут происходит много событий одновременно: я теряю четверть рассудка, а Доура протискивается в гараж, здоровается со всеми, захлопывает дверь и заводит: не знаком ли мне австралиец, мужчина из Австралии, который все выходные стучался в дом, в последний раз – сегодня с утра, эдакий громила размером с тролля: руки толщиной с ногу, а голова маленькая, волосы светлые; он требует Линду, хочет поговорить с Линдой, знает, что она живет в этом доме, потому что ее компьютер здесь. Он хотел осмотреть все комнаты, заглядывал под кровати, как полицейский, и слова, и тело у него были горячими: ей пришлось насухо протирать паркет там, где он лежал.
«С него пот просто ручьями струился. Вся спина взмокла».
«Это Бод».
«Что?»
«Скажи ему, что Линда переехала».