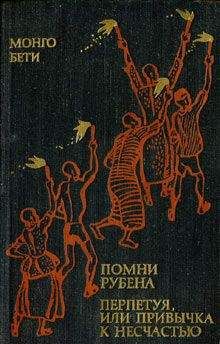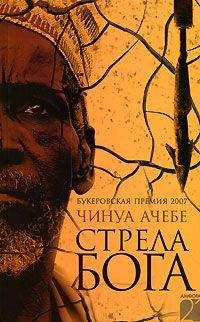Эдуард говорил теперь на банту, хотя на этом языке ему следовало бы изъясняться с самого начала; он громко объявил Перпетуе, что она может идти спать, добавив, что не следует освобождать от выполнения гражданского долга жену секретаря ячейки, в каком бы состоянии она ни находилась.
— Как только придешь домой, Перпетуя, — сказал он, — вели сразу же принести сюда два ящика с пивом.
Когда слуга-подросток, которого Эдуард нанял недавно, принес один за другим ящики с пивом, секретарь протянул каждому из присутствующих бутылку «Бофора». И хотя теперь оставаться и дальше в доме было совсем не обязательно, никто не спешил уйти. Люди не знали, как вести себя, ими владело желание безраздельно отдаться веселью и вместе с тем смущение, которое вызывает любая неясная ситуация, и страх, ибо всякий нормальный человек скорее предпочтет побрататься с разбойником, чем рисковать собственной жизнью. Среди смутного гула голосов выделялся довольный голос нового секретаря: с радостной улыбкой, умиротворенный, он вел беседу со своим соседом, делегатом районного комитета единой партии, очевидно, они обсуждали важные проблемы, связанные с будущностью нации.
Наблюдая вместе с остальными за своим мужем, Перпетуя испытывала двойственное чувство: он вызывал у нее восхищение и вместе с тем она не могла отделаться от чувства, похожего на презрение. Впрочем, в ту пору (то есть в августе-сентябре 1965 года) в Зомботауне, да и в Ойоло такого рода персонаж был в диковинку: ярый сторонник Баба Туры — с виду паяц, а на самом деле человек, населенный страшной властью, грабитель, в<х>руженный гражданским кодексом, смешная мартышка и зловещая горилла, преступник и жандарм — все вместе.
Вопреки желанию Эдуарда, Перпетуя теперь была освобождена от всякой работы — не только общественной, но даже; и домашней: она снова ждала ребенка и ее беременность достигла уже той стадии, когда любое усилие изнуряло ее. Она даже не смогла прийти на собрание, где Каракалья должен был превозносить политику Баба Туры. Вскоре у Перпетуи родился второй сын, и из-за родов она отсутствовала как раз в тот момент, когда наступила решающая фаза возвышения ее мужа: он организовал в Зомботауне торжественное шествие по случаю военного переворота, в результате которого был свергнут президент Ганы Кваме Нкрума, укрывавший в Аккре бежавших руководителей НПП. Своевременность и успех этой демонстрации, наделавшей много шума, произвели должное впечатление, в том числе и в самых высоких сферах.
Но вернемся назад, к тому времени, когда почтенный Замбо. вызванный в начале сентября 1965 года своим братом, вновь взял на себя заботу доставить свою золовку к Марии, с тем чтобы она оставалась там до рождения ребенка.
Таким образом, Перпетуя, Ванделин и почтенный Замбо снова встретились с Марией, более чем когда-либо озабоченной делами своего сына Мартина, который отправился путешествовать, не сообщив Марии ни о цели, ни о маршруте своего путешествия. Марию приводил в отчаяние его отказ жениться, хотя она подыскала для Мартина настоящую жемчужину — девушку ласковую, деловитую, покорную, да к тому же, вне всякого сомнения, девственницу, что сулило в будущем многочисленное потомство. Но нет! Мартин и слышать не желал о женитьбе. Истинное проклятье!
Перпетуя, которая, конечно, не могла оставаться безразличной к такому странному поведению брата, тем не менее часто сетовала на то, что мать ни разу не навестила ее в Ойоло, — откуда ей было знать, какие советы дал в свое время Марии и Мартину почтенный Замбо… Вместо того чтобы, сославшись на мнение Замбо, объяснить дочери, что она считает для себя неудобным ехать в гости к чиновнику, да еще такому уважаемому человеку, как Эдуард, который усвоил образ жизни белых людей, Мария решила поговорить с дочерью откровенно — ведь она и сама считала, что ей незачем ехать в город к Перпетуе.
— Что же я должна была делать, по-твоему? Бросить тебя или бросить твоего брата Мартина? — с обезоруживающей прямотой спросила она. — Ведь другого-то выхода у меня нет: надо бросить кого-нибудь из вас. Так вот, я предпочитаю бросить тебя. У тебя жизнь устроена, чего тебе еще надо? Живешь с мужем, все его расходы возмещает государство, он достиг высокого положения, и у тебя есть все, что только душе угодно: ребенок, друзья, которые любят и балуют тебя, помнишь, ты сама мне об этом рассказывала, когда приезжала в первый раз? Разве не так, дочь моя? Не ты ли тысячу раз мне повторяла, как ты счастлива и всем довольна. А у Мартина только я одна, и у меня, кроме него, никого нет. Мы с ним все равно что муж с женой. О матери с сыном не пристало так говорить, но это чистая правда. А ехать к вам в город вдвоем, Перпетуя, я боюсь. Нужны деньги, чтобы умаслить чиновника, который выдает пропуска, и полицейского, который, несмотря на пропуск, может арестовать тебя, а где их взять, деньги-то? Зачем только масса Баба Тура все это придумал? Когда правили белые, все было гораздо проще. Я помню, Ванделин тогда учился в коллеже в Фор-Негре, и я ездила к нему когда вздумается, никому и в голову не приходило требовать у меня удостоверение или пропуск. А Ванделин еще уверял, что жизнь станет лучше, как только губернатором поставят кого-нибудь из наших, и что же? Баба Тура стал у нас губернатором, а дела с тех пор идут все хуже и хуже. И Ванделина нашего сослали, а ведь при белых ему нечего было бояться. Тогда он имел и жилье, и пропитание, и сам был в безопасности. Что же с ним теперь? Где он?
— Я знаю, мама, где Ванделин. Очень далеко на Севере, ты, верно, слышала о тех краях: он в Мундонго.
— Это правда? Кто-нибудь видел его? Ванделин не умер?
— Уж не желаешь ли ты ему этого случаем, мама? Ведь ты ненавидела Ванделина.
— Что с тобой, Перпетуя? Как ты смеешь говорить такие слова? Ванделин — мой сын! Я страдала, если страдал он, и была бы рада, если б узнала, что он жив. Только кто это может мне сказать наверняка?
— Я говорю тебе это, мама. Его сослали в лагерь и приговорили к пожизненному заключению.
— К пожизненному! Что же он такого сделал?
— Занимался политикой, мама, и тебе это прекрасно известно. Ты же сама осуждала его за это.
— Зачем Баба Тура все испортил! Подумать только! А ведь мой маленький Ванделин говорил, что все пойдет по-другому, если над нами поставят кого-нибудь из наших.
— Ты никогда как следует не прислушивалась к тому, о чем говорил Ванделин, мама, и в этом все несчастье. Вспомни хорошенько. Ванделин говорил, что все пойдет по-другому, если у власти будет не просто кто-нибудь из наших, он называл только одного человека — Рубена. Рубен… он столько раз повторял это имя, что ты должна была бы запомнить. Ванделин, как и все, надеялся, что у власти будет Рубен, а не Баба Тура. В то время никто даже не слыхал о Баба Туре. Кого-нибудь из наших… Легко сказать! Да разве все люди одинаковы? И среди нас, как и всюду, есть и хорошие люди, и негодяи. Я поняла это с тех пор, как стала жить в городе, в этом человеческом муравейнике. Так вот, Рубен был хороший, добрый человек — одним словом, Иисус Христос для черных, а Баба Тура — негодяй. Только не вздумай громко говорить об этом. Вот видишь, мама, и у нас теперь есть свой Иисус…
— Тогда почему же ваш Рубен не стад губернатором?
— Ты прекрасно знаешь, мама, почему. Белые убили его. Ведь если бы губернатором стал он, им пришлось бы отдать нам все: города, магазины, лавки, конторы, поезда, аэропорты, роскошные дома — в общем все. Зато теперь, когда страной правит Баба Тура, они, как видишь, оставили за собой все. Они убили Рубена, точно так же как убили когда-то Иисуса, который тоже нес людям добро: Рубен — это Иисус Христос бедных людей.
— Недаром я всегда говорила: зачем дразнить тех, кого господь бог поставил над нами. Это всегда плохо кончается. Несчастье поразило моего сына, как молния поражает чересчур высокое дерево, превращая его в пылающий факел в ночи.
— Мама, я от тебя устала! — не выдерживала в конце концов Перпетуя. — Где это видано, чтобы господь бог ставил кого-то над кем-то? Это какой-то кошмар — то, что ты говоришь. А кошмары могут только присниться во сне, мама, наяву их не бывает.
— Ну вот, ты заговорила, как Ванделин.
Мальчик, которого родила Перпетуя, до того был похож на М’Барг Онану, что в Зомботауне его вскоре стали называть не иначе как «Комеса» — от слова «комиссар». Это прозвище обидело Перпетую, но не произвело никакого впечатления на Эдуарда — на удивление всем, он относился к Комесе, сыну, которого его жена зачала от его покровителя, с не меньшей нежностью, чем к Шарлю, чье сходство с его собственной персоной являлось для него предметом отцовской гордости.
Прошло уже, наверное, около восьми недель с того дня, как Перпетуя с двумя ребятишками вернулась в Ойоло, как вдруг стало известно, что с Замбо случился удар. Впервые после своей свадьбы Эдуард соблаговолил появиться в родной деревне, правда, на другой же день поспешил уехать.