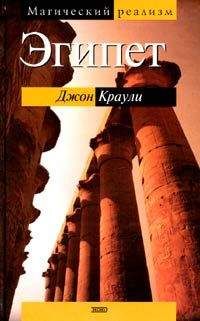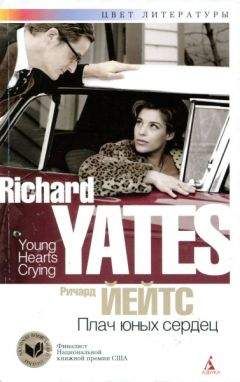Когда Теофил наконец понял, каким представляет себе мир Джордано, тогда началось сражение. Мир Джордано был такой же круглый, как у Теофила, но гораздо разумнее, понятнее; ему самому дело представлялось до того ясным, что он долго даже не мог понять, над чем потешается Теофил — и что он потом пытается доказать. А когда понял, тут же возникло неимоверное число неясностей: а в чем держатся воздух и свет? Как мы можем жить, торча в пустоте? Почему антиподы не падают с земли вниз, вниз, туда, в бесконечность? Это был абсурд.
А потом как-то в золотисто-солнечный денек, жуя апельсин среди зимних останков плодового сада, он вдруг вывернул свой мир — это отдалось во всем его существе, словно суставы хрустнули или в глазах помутилось, — вывернул его наизнанку, как счищенную кожуру своего апельсина; и все горы и реки, виноградники и фермы и церкви перевернулись вместе с ним. Солнце и звезды взлетели вверх, заполнив собой пустоту, где жил Бог. Мир вышел за свои пределы. Мир был круглым.
В горном приюте для отшельников колокол негромко позвонил к Приме.
Вот точно такое же ощущение, словно мир выворачивается наизнанку, как кожура апельсина, он испытывал, стоя в Венеции под дождем у прилавка книготорговца со странным кольцом: такое, что заставило его смеяться.
Если привести в движение центр мироздания, что тогда станет с его периферией? Если свернуть внешние сферы внутрь, то во что превратятся сферы? В центре старого мироздания находилась земля, в центре земли он сам, в центре него — небесные сферы, которые он выстроил внутри себя, в центре них…
А если он вывернет малую вселенную, находящуюся внутри него, наружу, что случится с той, что вовне его?
Он услышал стук сандалий послушника, который обязан был будить монахов на молитву. Сандалии приблизились к его келье, послушник стукнул в его дверь, объявляя у каждой двери: Oremus, fraters. [138]
Снег все еще кружился в весеннем воздухе, когда караван, с которым шел Джордано, поднимался от Новалезе к Мон-Сени. С вершины путешественники спускались на санях, впереди сильный маррон с ремнем на груди, чтобы тянуть, позади второй с альпенштоком, чтобы тормозить; по скользкой дорожке сани разогнались, марронам хоть бы что, а укутанные в меха иностранцы от ужаса вытаращили глаза. Снег, тяжело кружась, опускался с высоты весь день; повозки вязли, застревая и задерживая остальные, крепкие маленькие мулы брели по колено в снегу. Джордано с ужасом и восторгом ощущал, что снег поглощает все его чувства.
Наконец их караван остановился на ночлег в деревеньке возчиков, совсем недалеко от Коля; местные жители привычно распределили между собой постояльцев; ночевать устраивались в любом закутке. Животных поста вили в загон, повозки укрыли. Джордано пришлось выложить немало монет за миску молока, хлеб и место на тюфяке, набитом хрусткими буковыми листьями, недалеко от огня.
Когда он проснулся среди мирно храпевших людей, была еще ночь. В кромешной тьме постоялый двор казался пещерой. Джордано выбрался из-под кучи тряпья, которой он был укрыт, и вытащил оттуда меховую накидку; набросил ее на себя поверх монашеской рясы и — ступая иногда между, иногда через, а порой и на спавших на полу собак и детей — отыскал-таки дверь на улицу.
Потрясающий воздух, спокойный и чистый, словно из хрусталя, щипал нос и горло. Буря прошла, небо стало чистым, куда чище, чем он мог себе представить, — словно он оторвался от земли, вознесся на небо и находился теперь в воздушной сфере. Его теплое дыхание облачком висело перед лицом. Он подобрал накидку и рясу и зашагал во двор; обмотанные тряпками ноги оставляли темные, как лужи, дыры в освещенном звездами снегу.
Но если Коперник прав, существует ли воздушная сфера поверх земной? Старая, аристотелевская Земля, черная, плотная, основательная, накапливалась на дне творения, под легкими сферами воды, воздуха, огня. То, что легче — искры, души, — поднималось кверху. Но по Копернику, сама Земля, став легче воздуха, поднялась и поплыла, так где же тогда верх?
Душу переполняли чувства. Звезды и планеты смотрели вниз с безлунного неба или смотрели в сторону и горели. Они горели. Огромный трон Кассиопеи. Лира. Дракон. Медведица, стоя на хвосте, смотрела на Полярную звезду, вокруг которой вращаются небеса. Только они не вращаются. Это лишь кажется, что восьмая, звездная сфера поворачивается, на самом деле сама земля совершает один оборот в сутки, крутясь на одной ножке, как арлекина.
А может, и самой-то по себе восьмой сферы нет…
Со звуком не-бытия, с чем-то вроде звонкого вздоха восьмая сфера исчезла. Освобожденные звезды полетели в разные стороны, прочь от Земли и друг от друга; меньшие из них (удалявшиеся быстрее) были не обязательно меньше, просто дальше других. Да! Тогда могут — обязаны быть! — другие звезды, удаленные настолько, что их даже не видно.
Сердце, переполненное светом звезд, было готово взорваться. Млечный Путь, похожий на снежную пыль, — это, может быть, тоже звезды, настолько далекие, что неразличимы глазом, как синяя дымка на дальнем винограднике, которая оказывается не чем иным, как сливающимися в одно целое виноградными соцветиями.
Насколько далеко?
Чем отметить предел? И как обосновать, почему сей предел положен?
Бесконечна, сказал Лукреций, не сумев придумать обоснования. Кузанец [139] сказал: круг, центр которого — всюду, а окружность — нигде.
Нет. Кузанец сказал так только о Боге. Это уже он, Джордано Бруно, отнес эти слова к Божьему творению, к тени Бога, которой является вселенная. Если звездам есть предел, тогда и Бог — не Бог.
Глядя вверх, задрав голову, он вдруг не просто ясно это осознал, а словно бы отчетливо увидел в чистом горном воздухе — это же само собой разумеется, он всегда это знал, только не произносил вслух.
Бесконечна! Он чувствовал, как ее бесконечность притягивает его взгляд и сердце и как отвечает ей бесконечность в нем самом: ведь если вселенная бесконечна снаружи, она должна быть бесконечна и внутри.
Бесконечна. Он пошевелил в снегу замерзшими ногами и повернул обратно, к постоялому двору. Маленькие пони топтались в своих загонах, выдыхая пар, оседавший инеем на их лохматых гривах.
В окнах постоялого двора зажегся трепещущий свет свечи, из трубы пошли клубы дыма вперемешку с искрами; в доме раздался смех. Подъем.
От деревни до вершины перевала было недалеко. Когда караван стал вновь взбираться по тропе, небо только начинало светлеть, исчезли лишь самые тусклые звезды, то есть самые дальние. Огромные беззвездные темные пространства по бокам оказались не небом, а горами. Они появились вдруг, став видимыми, словно только что проснулись и встали. В лазурном небе между ними горели утренние звезды. Меркурий. Венера. Джордано карабкался к ним, промочив в снегу ноги до колен.
Земля — такая же звезда, как и они; разумные существа, населяющие их, глядя в эту сторону, видят не холодный камень, а нечто такое же сияющее в солнечных лучах, как то, на чем живут они сами. Он позвал их: Брат! Сестра! Странный беззвучный гул слышался ему, звенел во всем его существе, словно занимавшийся рассвет сам издавал звук, протяжный и неизбывный. Звезда, которую он оседлал, бешено крутилась навстречу солнцу, везя на себе все: неторопливые гномьи повозки, стулья, животных, людей; Бруно засмеялся над вспыхнувшим желанием упасть и зажать этот крученый мяч руками и коленями.
Бесконечна.
Осознав, что матушка Земля такая же звезда, делаешься равен звездам; поднимаешься, минуя сферы, не отрываясь от земли, но паря на ней: осознавая, что она парит.
Белые главы горных вершин уже залил солнечный свет, хотя снег на перевале был еще синим. Джордано учили, что на самых высоких горных вершинах воздух находится в вечном покое, но здесь утренний ветер пронизывал накидки, и сверкающие ручейки снега сыпались с вершин, развеваясь на ветру, как знамя. У всех вершин имелись имена, и надутый возчик, преодолевавший подъем рядом с Джордано, называл их, тыча пальцем. Они тоже парили.
Замедлив ход, караван потек через холодную ревущую горловину Коль, потеряв из виду рассвет, мимо встречного обоза, теснясь, как на городской улочке. Затем они вышли на площадку из битого щебня, и тропа круто пошла вниз: они перевалили хребет.
Небо оставалось огромным и голубым, но далекие земли, которые озирал сверху Бруно, все еще лежали в тихом сне, складки гор делили, гряда за грядой, остаток его жизни. Дорога в ту сторону — дух захватывало смотреть — шла траверсом, поперек горных склонов, петляя взад-вперед, как кнут; можно было проследить сверху все повороты, которые там, внизу, придется совершить, там виднелись путники, взбиравшиеся вверх. По серебристой тропе шириной в ноготь, пролегавшей по краю пропасти, пастух вел своих овец, выстроившихся в колонну.
Земля поворачивалась, плыла на восток, как трирема; потому и всходило солнце, гигантская искра, Бог видимый. Бруно, стоя как столб, с гулом в ушах и сердцем, выпрыгивающим из груди, ощутил его улыбку кожей собственных щек.