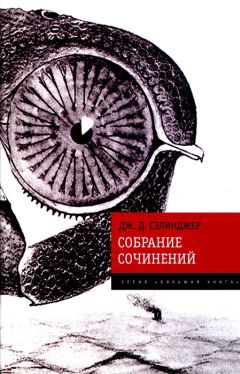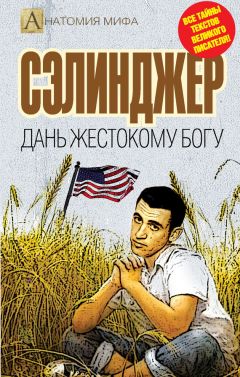В комнате раздавались только всхлипы Фрэнни — атласная подушка глушила их лишь отчасти. Блумберг теперь сидел под роялем на островке солнечного света, довольно живописно умывая морду.
— Вечные осложнения, — произнес Зуи, чуточку слишком сухо. — Что бы я ни сказал, выходит так, будто я подрываю твою Иисусову молитву. А я — ничуть, черт бы ее побрал. Я лишь против того, зачем, как и где ты ею пользуешься. Мне бы хотелось убедиться — мне бы очень хотелось убедиться, — что тебе она не заменяет к чертовой матери твой долг в жизни или, по крайней мере, повседневные обязанности. Но хуже того, до меня не доходит — богом клянусь, не доходит, — как ты можешь молиться Иисусу, которого даже не понимаешь. И непростительно, если учесть, что тебя пичкали через воронку примерно той же массой религиозной философии, что и меня, — непростительно то, что ты и не пытаешься его понять. Оправдать это еще можно было бы, будь ты какой-нибудь совсем простушкой, вроде того странника, или, черт возьми, совсем отчаялась, — но ты же не простушка, дружок, и ты совсем не на таком уж и краю. — Тут, впервые с того мига, когда лег, Зуи, по-прежнему не открывая глаз, сжал губы — тем самым весьма напомнив, кой факт следует отметить в скобках, привычку своей матери. — Боже всемогущий, Фрэнни, — сказал он, — если читаешь Иисусову молитву, по крайней мере, читай ее Иисусу, а не святому Франциску, Симору и дедушке Хайди в одном лице. Если читаешь, держи в уме его и только его — таким, каким он был, а не таким, как тебе хотелось бы. Ты прячешься от фактов. Черт, да то же самое отношение — прятаться от фактов — и привело тебя к такому бардаку в голове, и оно вряд ли тебя вытащит.
Зуи резко закрыл руками довольно разгоряченное лицо, через секунду убрал руки. Снова сложил на груди. Голос его обрел силу вновь, и Зуи заговорил почти идеально для обычной беседы:
— Меня вот что озадачивает, поистине озадачивает: я не понимаю, зачем человеку — если он не дитя, не ангел или не удачливый простак, вроде странника, — вообще читать молитву Иисусу, который хоть капельку отличается от новозаветного. Боже мой! Да он всего-навсего самый здравый человек в Библии, только и всего! Кого он не выше на голову? Кого? В обоих заветах полно пандитов,[230] пророков, апостолов, любимых сынов, Соломонов, Исайй, Давидов, Павлов — но, господи, кто, кроме Иисуса, на самом деле понимает, что к чему? Никто. Не Моисей. Не говори, что Моисей. Он был милый человек, и с богом прекрасно общался, и все такое — но в том-то и дело. Он вынужден был с богом общаться. Иисус же понимал, что никакого разделения с богом нет. — Тут Зуи хлопнул в ладоши — всего раз, негромко — и, весьма вероятно, против воли. Руки его вновь сложились на груди едва ли не раньше, чем, так сказать, дозвучал хлопок. — Ох господи, ну и мозги! — сказал он. — Ну кто, например, стал бы держать рот на замке, когда Пилат попросил объяснить?[231] Не Соломон. Не говори, что Соломон. У Соломона бы нашлось по такому поводу несколько емких слов. Я даже не уверен, что Сократ бы стал разговаривать, если уж на то пошло. Критону[232] или еще кому, наверное, удалось бы отвести его в сторонку на пару слов для протокола. Но самое главное, превыше всего прочего: кто во всей Библии, кроме Иисуса, знал — знал, — что мы таскаем Царство небесное с нами, в себе, куда и заглядывать-то не станем, потому что до черта глупы, сентиментальны и лишены воображения? Чтоб такое знать, надо быть сыном Божьим. Почему ты вот об этом не думаешь? Я не шучу, Фрэнни, я серьезно. Если ты не видишь Иисуса в точности таким, какой он был, до тебя совсем не доходит весь смысл Иисусовой молитвы. Если не понимаешь Иисуса — и молитву его не поймешь, у тебя тогда не молитва получится, а какое-то упорядоченное нытье. Иисус был высочайшим мастером, ей-богу, с ужасно важным заданием. Это тебе не святой Франциск, которому хватало времени отбарабанить пару-другую гимнов, попроповедовать птицам или позаниматься еще чем-нибудь, столь милым сердцу Фрэнни Гласс. Я, к чертовой матери, серьезно, а? Как ты можешь этого не замечать? Если бы Господу на работу в Новый Завет была угодна какая-то безусловно чарующая личность, вроде святого Франциска, он бы его и выбрал, уж будь уверена. А так он выбрал лучшего, умнейшего, самого любящего, самого несентиментального, самого неподражаемого умельца из всех. И если ты этого не замечаешь, ей-богу, мимо тебя пролетает весь смысл Иисусовой молитвы. У Иисусовой молитвы одна цель и только одна. Наделить того, кто ее читает, Сознанием Христа. А не устраивать никаких уютненьких свиданок ни с каким слащавым обожабельным божествам, «святым для тебя»,[233] которое возьмет тебя на рученьки, и освободит от всех обязанностей, и прогонит всю твою гадкую Weltschmerzen[234] и всех профессоров Тапперов так, чтоб никогда больше не возвращались. И ей-богу, если тебе хватает рассудка видеть это — а тебе хватает, — и ты, тем не менее, отказываешься это видеть, то молитву ты употребляешь не по назначению, тебе она только для того, чтобы выпрашивать себе мир, где одни куклы, святые и никаких профессоров Тапперов. — Он вдруг сел, метнувшись вперед с чуть ли не гимнастической скоростью, и взглянул на Фрэнни. В рубашке у него, по известному выражению, ни одной сухой нитки не осталось. — Если бы Иисус замысливал молитву для…
Зуи умолк. Длительно посмотрел на простертую ничком фигуру Фрэнни на диване и услышал — быть может, впервые — лишь полуподавленные отголоски горя. В тот же миг он побледнел — от тревоги за ее состояние, от того, что, видимо, неудача вдруг заполнила комнату своей неизменно тошнотворной вонью. Бледность его, вместе с тем, казалась примечательно бела — не смешана, то есть, с зеленью и желтизной мук совести и униженного покаяния. Бледность эта очень походила на обычный отток крови от лица маленького мальчика, который до самозабвения любит животных — всех животных, — и только что увидел лицо любимой сестренки, которой нравятся зайки и которая открыла коробку с его подарком на день рождения, а там — только что пойманная юная кобра с красной ленточкой на шее, завязанной неуклюжим бантом.
Он не спускал с Фрэнни глаз чуть ли не минуту, затем поднялся на ноги, нестойко и неуклюже — что для него было нехарактерно, — чуточку покачнувшись. Очень медленно через всю комнату подошел к материному письменному столу. И уже там стало ясно, что у Зуи нет ни малейшего понятия, зачем шел. Казалось, он не узнавал того, что лежит на столе: блокнота с зачерненными «о», пепельницы с окурком его сигары, — и Зуи обернулся и посмотрел на Фрэнни снова. Всхлипы ее слегка поутихли — или так казалось, — но тело оставалось в той же горестной позе: распростертое, ничком. Одну руку она подогнула под себя, поймала собой — так ей, должно быть, лежать было весьма неудобно, если даже не больно. Зуи отвернулся, затем — не без мужества — снова посмотрел на сестру. Кратко ладонью провел по лбу, сунул руку в карман, чтобы вытереть, и сказал:
— Извини, Фрэнни. Прости меня, пожалуйста. — Но от его сухого извинения всхлипы Фрэнни лишь возобновились и усилились. Зуи смотрел на нее — не мигая — еще секунд пятнадцать — двадцать. После чего вышел из комнаты в коридор и закрыл за собою двери.
За пределами гостиной запах свежей краски был уже довольно силен. Сам коридор еще не красили, но по всему полу твердого дерева были расстелены газеты, и первый шаг Зуи — нерешительный, даже чуть ошеломленный — оставил отпечаток резинового каблука на фотографии в спортивном разделе: Стэн Мьюзиэл[235] держит четырнадцатидюймового гольца. На пятом или шестом шаге Зуи едва избежал столкновения с матерью, возникшей из своей спальни.
— Я думала, ты ушел! — сказала она. В руках у нее были два выстиранных и сложенных покрывала. — Мне показалось, я слышала парадную… — Она умолкла, оценивая общий внешний вид Зуи. — Это что? Испарение? — Не дожидаясь ответа, она взяла Зуи за локоть и вывела — почти вымахнула, точно он был легче веника — на свет, падавший из ее свежепокрашенной спальни. — И впрямь испарение. — Извергай поры Зуи нефть-сырец, ей было бы не под силу не одобрить этого изумленнее. — И чем же это ты занимался? Ты ж только что принял ванну. Что ты делал?
— Я уже опаздываю, Толстуха. Давай. Сдвинься, — сказал Зуи. В коридор выволокли высокий филадельфийский комод, и он теперь, вместе с миссис Гласс лично, загораживал проход. — Кто поставил сюда это уродство? — спросил Зуи, глянув на комод.