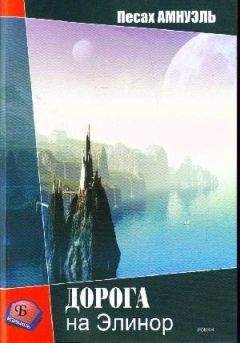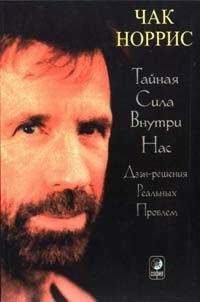Не успел оратор усесться на место, как из-за кулис вышел какой-то человек и направился к Гарнетту. Он протянул ему записку, шепнув при этом что-то на ухо Гарнетт прочитал записку, встал, подошел к краю сцены и поднял руку. Когда в зале воцарилась тишина, он сказал:
- Только что получено печальное известие. Наш друг и соотечественник мистер Остерман умер сегодня утром между одиннадцатью и двенадцатью.
Оглушительный рев взметнулся над залом. Люди повскакивали с мест, все кричали, потрясали кулаками. От нарастающего шума дрожали стены театра, колебалось пламя газовых рожков. Это был хриплый, многоголосый вопль возмущения - вопль ненависти, нечленораздельный и оглушающий.
Словно вихрь пронесся по залу из конца в конец, сея безумие, сопротивляться которому не хватило сил и у Пресли. Он пришел в ярость, перестал владеть собой. В один миг очутился он на сцене. Стоя лицом к зрителям, распаленный, весь во власти собственного воображения, неистово размахивая руками, он говорил, давясь словами, не в силах справиться со своим волнением.
- Еще одна смерть! - кричал он.- Еще одна! Хэррен убит, Энникстер убит, Бродерсон убит, Дэбни убит, Остерман убит, Хувен убит; они застрелены, погибли, защищая свои жилища, погибли, защищая свои права; отдали жизнь за свободу! Как долго это будет продолжаться? Долго ли еще нам страдать? Где же конец и каков он будет? Долго ли это жестокосердное чудовище будет пить нашу кровь? Долго ли этот чугунный, огнедышащий изверг будет давить нас? Я обращаюсь к вам, нашим господам, нашим властителям, нашим королям, нашим эксплуататорам, к вам - наши фараоны. Неужели вы никогда не насытитесь, никогда не смягчитесь? Неужели вы никогда не прислушаетесь к словам: «Отпусти народ мой!»[21] А ведь они звучат уже много веков. Вслушайтесь в них, вслушайтесь! Это голос Господа Бога, обращающегося к людям через пророков. Вслушайтесь же, вслушайтесь: «Отпусти народ мой!» Рамзес слышал их, стоя у пилонов своего дворца в Фивах. Цезарь слышал их на Палатинском холме. Людовик Шестнадцатый слышал - в Версале, Чарльз Стюарт - в Уайтхолле, русский царь - в Кремле; «Отпусти народ мой!». Это глас всех народов, гремящий в веках, разносящийся по всему миру! Глас Божий - это глас народа. Народы призывают: «Отпусти нас, отпусти Божий народ!» Вы, наши господа, наши властители, наши тираны, неужели вы нас не слышите? Неужели вы не слышите, что нашими устами глаголет сам Господь Бог? Неужели вы нас никогда не отпустите? Доколе еще вы будете испытывать наше терпение? Доколе будете помыкать нами? Доколе будете мучить нас? Неужели ничто не образумит вас? Ничто не удержит вас? Неужели вы не понимаете, что, оставляя так долго без внимания наш призыв, вы будите Красный Террор? Рамзес не внял этому призыву и погиб мученической смертью. Цезарь не прислушался к нему и был заколот кинжалами в сенате. Людовик Бурбон не пожелал услышать голос народа и кончил на гильотине; Чарльз Стюарт отверг глас народа и сложил голову на плахе; русский царь пренебрег им и был разорван бомбой в собственной столице. Вы и для себя того же хотите? Неужели вы доведете нас до этого? Нас, гордых своей свободной отчизной, нас, живущих в стране свободы?
Продолжайте то, что начали, и так оно и будет! Не обращайте внимания на призыв: «Отпусти народ мой!» - и скоро зазвучит другой, новый, не услышать, заглушить который будет невозможно. Он раздастся на улице, этот клич французских революционеров: «А 1а Bastille!»[22] - и он приведет к революции, развяжет Красный Террор. Измученный, ограбленный, доведенный до отчаяния, обозленный народ перевернет все вверх дном, как переворачивал много раз в прошлом. Вы, наши властители, наши эксплуататоры, наши короли,- вы схватили своего Самсона и присвоили себе его силу. Вы остригли ему волосы, выкололи глаза и заставили вращать жернова на ваших мельницах, выставили его на позор и осмеяние. Но берегитесь,- если вам дорога жизнь! - берегитесь, ибо настанет день, когда он, призвав на помощь самого Господа Бога, протянет могучие руки, сотрясет колонны ваших храмов и похоронит вас под развалинами!
Слушатели, вначале смущенные, ошеломленные столь неожиданной речью, при последних словах заволновались. Раздался гром аплодисментов, но когда Пресли снова заговорил, все мгновенно стихло, и тишина эта была куда более красноречива, чем одобрительный шум в зале.
- Мы у них в руках, в руках господ и эксплуататоров, им принадлежат наши дома и наши законодательные органы. Мы не можем от них избавиться. Пожаловаться на них некому. Нам говорят, что мы можем взять над ними верх с помощью избирательных урн; но урны тоже давно в их руках. Нам говорят, что мы должны искать защиты в суде, но и судьи подкуплены ими. Мы знаем, что они собой представляют: бандиты в политике, бандиты на бирже, бандиты в судах, бандиты в коммерции, люди, занимающиеся подкупом, обманщики, плуты. Никакое нарушение закона, как бы грубо оно ни было, для них не опасно, никакой кражей,- даже самой мелкой,- они не брезгуют: они могут ограбить казну на миллион долларов и вслед за этим залезть в карман батраку, чтобы вытащить у него несколько медяков - цену краюхи хлеба.
Они жульническим приемом выманивают у государства сто миллионов и называют это финансовой политикой; они вымогают деньги шантажом и называют его коммерцией; они насаждают подкупность и продажность в законодательных органах и называют это политикой; они подкупают судей и называют это законностью; они нанимают негодяев и штрейкбрехеров для осуществления своих планов и называют это администрированием; они торгуют честью штата и называют это конкуренцией.
И это - Америка! Мы сражались за свою свободу у Лексингтона; мы дрались у Геттисберга, чтобы добыть свободу другим. Но ярмо осталось ярмом, мы только переложили его с одной шеи на другую. Мы говорим о свободе - о, какой фарс, какая бездарная шутка! Мы убеждаем себя и учим наших детей, что свобода завоевана, что нам больше не нужно за нее бороться. Нет, борьба еще только начинается, и пока мы сохраняем наше теперешнее представление о свободе, борьба эта будет продолжаться.
Ибо,- если судить по статуям, которые мы воздвигаем,- свобода представляется нам в виде прекрасной гордой женщины в блестящих доспехах и в белых одеждах, с венцом на голове, со светильником в высоко поднятой руке - в образе ясноокой, величественной, победоносной богини. О, какой фарс, какая бездарная шутка! Свобода - это не увенчанная лаврами богиня, прекрасная, в белоснежных одеждах, победоносная и величественная. Свобода - это смерд, это некто, вселяющий страх, возникающий в облаке порохового дыма, вываленный в грязи и навозной жиже, окровавленный, несгибаемый, жестокий, сквернословящий, с дымящейся винтовкой в одной руке, с горящим факелом - в другой! Свобода не дается всем, кто попросит. Свобода - это не дар богов. Она - дитя народа, рожденное в пылу боя, в смертельных муках, она омыта кровью, присыпана порохом. И, возмужав, она становится не богиней, а фурией, страшной, равно уничтожающей и врага, и друга, яростной, ненасытной, безжалостной,- становится Красным Террором.
Пресли умолк Обессиленный, дрожа всем телом, слабо соображая, что с ним происходит, он сошел со сцены. Раздались долгие, оглушительные аплодисменты; люди кричали, топали, размахивали шляпами. Но аплодировали они не потому, что его выступление привело их в восторг. Пресли чувствовал, что ему не удалось по-настоящему затронуть сердца своих слушателей. Он говорил так, как писал; при всем своем презрительном отношении к высокопарному литературному стилю, совсем освободиться от него он не сумел. Его слушатели - как бы внимательно ни слушали его все эти фермеры, сельские жители, торговцы - не могли слиться с ним в едином порыве. Они смутно понимали, что в его речи присутствовало нечто такое, что другие, более образованные люди, назвали бы витийством. Ему аплодировали шумно, но равнодушно, лишь бы сделать вид, что им все ясно.
И Пресли вдруг совершенно ясно осознал, что при всей своей любви к простым людям, он им чужд и непонятен. Он ничем не помог народу в достижении его цели - и никогда не поможет.
Разочарованный, растерянный, смущенный, он медленно вышел из театра и в задумчивости остановился на ступеньках.
Нет, ничего у него не вышло! И это в такой ответственный момент, когда, как ему казалось, он испытал прилив настоящего вдохновения. Народ не прислушался к нему, не поверил, что он может принести пользу. И тут вдруг Пресли вспомнил. Губы его снова решительно сжались. Пробившись сквозь толпу, он направился к постоялому двору, где оставил свою лошадь.
Тем временем зрительный зал снова забурлил. Приехал Магнус Деррик.
Только сознание величайшей ответственности, всей серьезности принятого на себя нравственного обязательства заставило Магнуса покинуть в тот день свой дом, где еще лежало тело убитого сына. Но он был председателем Союза, и никогда еще за все время своего существования их организация не собиралась по делу такой важности. Кроме того, вчера во время событий, развернувшихся у оросительного канала, командовал он. Это по его приказанию собрались там несколько членов Союза, и ответ за то, что произошло, держать ему одному.