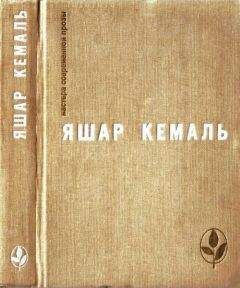Долго еще пел старик. О горе и о гневе старшего брата.
Когда мы достигли Кесиккели, он простился со мной. Глаза его улыбались, сверкали, словно капли росы, унизавшей зеленые листья. Старая Чукурова продолжает жить в его сердце. Все наши старики тоскуют по прошлому. Они еще помнят, как по необъятной равнине скакали арабские кони и джейраны. Ах, проклятая старая Чукурова! Споры и рознь между племенами. И любовь, великая любовь, перехлестывающая все преграды. И снова споры и рознь.
Не осталось сынка,
Не осталось конька.
Что ж ты, дервиш, лежишь?
Пролежал все бока.
Мне надо было выехать из Нигде в Адану. Оба автобуса, курсирующие по линии Кайсери — Адана, уже ушли. Поезд приходил только в полночь. Я вышел на дорогу и стал ждать попутной машины. Передо мной остановился грузовик с кузовом, затянутым брезентом. Внутри было полно народу.
— Подбрось меня, — попросил я шофера.
— Оба места в кабине уже заняты, — ответил он.
— Я поеду в кузове.
Шофер на мгновенье задумался, потом сделал неопределенный жест: садись, дескать, а мне-то что. Я перемахнул через задний борт. Кузов был битком набит. И все молодежь лет до тридцати. Лишь трое стариков с курчавыми бородами. Мне освободили местечко, я присел.
Все это были афшары-поденщики из каза Сарыз, ехавшие мотыжить хлопок в Чукурову.
— Говорят, в тех краях можно заработать три лиры в день, — сказал один. — Совсем недурно.
— А я слышал, там плохо с работой, — вступил в разговор другой. — Неужели такое возможно, джаным[51]? Да и то — кругом одни машины. Кому мы там нужны?
— Если вы это знаете, зачем едете?
— Не по своей воле — нужда гонит. Что толку дома сидеть? Теперь в Чукурову едет не так много батраков, как прежде. Может, и найдется какое дело.
— В Юрегирском районе, с тех пор как появились машины, на людей даже и не смотрят. На собак смотрят — на людей нет.
— Хоть сдохни, юрегирцы и куска хлеба не дадут.
— Так было и в прежнее время.
— Так, да не совсем так.
— Только в Кадирли и Козане еще остались добрые люди.
— И сейчас дают подработать. Угощают теплым, как кровь, айраном. Пьешь и дрожишь, словно в лихоманке.
— Все-таки едем в Чукурову. Хоть маленькая, да надежда. Может, дело не так уж плохо.
Грузовик мчался по степи, поднимая тучи пыли.
Из угла послышался голос худенького, сутулого, с морщинистым лицом и длинной шеей старичка, которого, как я потом узнал, звали Сюлейман-ага.
— Мы-то знаем, какова была встарь Чукурова. Ничего похожего на то, что сейчас. Сплошь болота. Все лето от них шел зловонный дух. Ни один горец не мог выдержать больше двух месяцев в Чукурове. Не от жары, так от огневицы помирали. А еще хуже тут было до того, как начали сеять хлопок. Гиблое место. Гиблое, но красивое. Мой дед говорил, что вся Чукурова цвела желтоглазыми нарциссами. Бродили по ней кочевые племена. — Сюлейман-ага замолчал, повернулся к молодым: — Вы и понятия не имеете, какова была Чукурова. А вот нам, старикам, досталось. От одних москитов взвыть можно было. Живого места на теле не оставалось… Спойте-ка песню.
Десятка полтора парней завели какую-то песню.
Парень, сидевший рядом со мной, нагнулся к моему уху:
— Знаешь, зачем он заставляет их петь?
— Хочет развлечься.
— Да нет. Есть такая песня, называется «Анаварзийский плач».
— Ну есть.
— Там поется про дервиша. Этот дервиш был предком Сюлеймана-ага. Уж он заставит парней спеть эту песню. Не то рассердится — страх!
Уже наступила ночь. Грузовик весь пропах потом. Потом и пылью. Полтора десятка голосов летели над степью, мчались прямо к Торосским горам.
— Спойте что-нибудь про Чукурову, — попросил я.
Парни тотчас же согласились. Вежливые, обходительные ребята.
Сперва мне рассказали предысторию песни. У некой вдовы был сын по имени Осман. И был он помолвлен с красивой девушкой, но по бедноте своей никак не мог на ней жениться. В конце концов он отправился на заработки в Чукурову. И там погиб от лихорадки. Мать не пережила его смерти, а невеста целыми днями пела грустную песню, которая могла бы разжалобить даже скалы:
Бежит, течет Джейхан-река.
Вода ее мутна, горька.
Ты не ходи, сынок, в те степи:
Там пропадешь наверняка.
Повеяло запахом сосен — мы переваливали через Торосские горы.
— Бедняга Сюлейман никак не дождется, пока споют «Анаварзийский плач», — обратился ко мне сосед. — Сейчас я скажу им.
Он потормошил одного из парней.
— Спойте-ка «Анаварзийский плач». Не то наш Сюлейман лопнет от досады.
Парни резко оборвали веселую, игривую песенку, которую только что пели. Завели грустный, обжигающий болью плач.
— Погодите, — остановил их Сюлейман. — Я расскажу эфенди историю этого плача.
Все замолчали.
— Этот дервиш был моим предком, — начал Сюлейман. — В те времена на Анаварзе было много беев и ага. Дервиш умыкнул дочь одного бея. Тот как будто бы простил его, но затаил зло. По его наущению дервиша убили. А дядя этого моего предка был разбойником. Звали его Али. В страхе перед ним бей бежал из Чукуровы.
Целый час рассказывал мне Сюлейман-ага о разбойнике Али, о своем предке-дервише, о тех временах. Парни уже запели, а он все еще продолжал говорить.
Анаварзийский конь горяч.
Он среди скал несется вскачь.
Отныне нет моей опоры.
Одно мне остается — плач.
Алеет дервиша платок.
Судьба! Как твой удар жесток!
Я целовать его не смела.
Убитый, кровью он истек.
Проходят тучи. Грянь, гроза!
Загрохочи, Анаварза.
Али, не отомстив убийце,
Как людям поглядишь в глаза?
Мы уже миновали перевал. Стало душно. В небе золотились крупные звезды. Парни перестали петь. Уснули вповалку. Только я стоял, как цапля, на одной ноге — другую некуда было поставить, — стараясь глотнуть свежего воздуха. В Адану мы прибыли уже на рассвете.
В Каршияка под эвкалиптами собралась большая толпа поденщиков. Там все, кроме меня, сошли. Я поехал дальше.
Пассажиры третьего класса
В поезд я сел в Саркышла. Как садился, лучше и не спрашивайте.
Вагон третьего класса был забит до отказа. Дети, женщины, старики. Полон не только коридор, но даже и туалет. Расстелили одеяла, в головах сумки. Запах пота, табачный дым.
Особенно тесно по углам — невозможно даже рукой пошевелить.
На каждой остановке на двоих сошедших пассажиров приходится пятеро садящихся. «Неужели в этот вагон может втиснуться еще кто-то?» — думают люди в пролетах между станциями. Однако втискиваются — и помногу. Тут есть некая непостижимая для меня тайна. Я только знаю, что это чудо сотворяется по мановению руки уважаемого министра путей сообщения.
Ночь захватила нас за Сивасом. Люди в коридоре спали съежившись, подтянув колени к животам. Спина к спине. Кое-где прямо друг на друге. Как братья. То-то удивятся утром, когда проснутся. А возможно, и нет. Привыкли уже. Всю свою жизнь анатолийцы проводят в такой вот давке.
От всех исходит дружеское тепло. Они объединены общей судьбой. Невольно задумываешься над тем, что сливает их в одно целое.
Вот крепко спит парень, положив голову на ноги бородатого старика. У парня тонкое длинное лицо. По его бледности можно предположить, что он с берегов Черного моря. Старик, вероятно, эрзрумец или горец. Не сын и не отец, а нечто большее.
Мне удалось найти место для своего тяжелого чемодана и сесть на него — одна из самых редких удач в моей жизни. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Этот успех сильно укрепил мою уверенность в себе.
Сидя на чемодане, я оглядывал окружающих. Завидное, не правда ли, положение?
Кое-кто из спящих бредил, кое-кто беспокойно ворочался с боку на бок, кое-кто ходил, наступая на своих соседей.
Среди спящих особенно хорош был один. Этот положил голову на порог туалета. На ногах у него были длинные, до колен, вязаные сивасские чулки, украшенные весенними цветами. Кругом горе, толкотня, грязь, а я любуюсь этими замечательными чулками. Да будут благословенны связавшие их руки!
Человек в чулках время от времени пытался вытянуть ноги и постанывал.
За Эрзинджаном стало холодно. Окна вагона разрисовал своими узорами иней.
Рядом со мной, в объятиях женщины, закутавшей лицо покрывалом, лежал ребенок лет четырех-пяти. Бедняжка был весь красный и, с тех пор как сел на поезд, не переставал дрожать.
Тут же, неподалеку, развалился усатый мужчина в рваных саржевых шароварах и таком же плаще. Он что-то бормотал сквозь стиснутые зубы. Внезапно пробудился, поглядел на дрожащего ребенка, встал и, с трудом выбирая место, куда поставить ногу, приблизился к женщине.