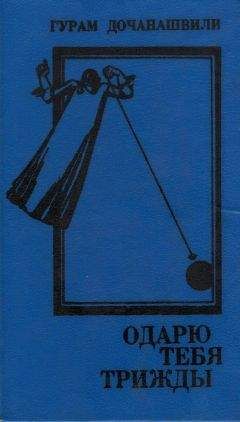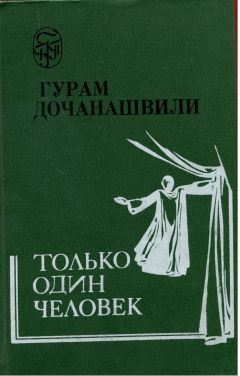— Женщинна!
Но так сказал, что она мигом смолкла. И не подумайте случайно, что Бахва был каким-то необыкновенным силачом или богатырем, нет, в этом смысле данные у него были самые средние, но стоило ему войти в раж и — о-го-го-го! — врагу своему не пожелаешь, тогда он один стоил трех базарных скопищ. Мы вроде частенько упоминаем здесь о базаре, но это потому, что у Бахвы в пригороде Тбилиси были теплицы (принесенное-оставшееся-на-месте приданое жены, единственной у своих отца-матери), где он выращивал огурцы и помидоры, продавать которые поручал другим — торговля-де не мое дело, — и какой-нибудь охочий до наживы доброволец клал себе в карман половину выручки. А вообще-то Бахва работал на одном из открытых бассейнов сторожем-пожарником; и хотя он окончил географический, от которого, по его собственным словам, ему не прибыло ни вреда, ни проку, — тем не менее он отнюдь не был недоволен двумя своими занятиями.
И право же, ну чем плохо быть сторожем — ночь; солнечная столица мирно почивает, только нет-нет проедет какая запоздалая машина с задернутыми шторками; кругом, в основном, тишь да благодать, а Бахва плавает, плещется в охотку в бассейне, и ему ни на миг не придет в голову, что он, нарушая какую-то там статью, злоупотребляет своим служебным положением, и только один раз он все-таки за это поплатился: у него стянули почти всю одежду. Бог весть, кому могли понадобиться его сорочка, брюки и один ботинок? Он так никогда об этом и не узнал. Скорее всего, над ним просто подшутили или он стал жертвой спора. Хорошо еще, что жил он там же поблизости. Только вот жена, когда он заявился домой в таком откровенном виде, тотчас же: «Имя!» — говорит. Бахва поначалу не усек, что его половина ревнует, а когда сообразил, что к чему, не только не разозлился, а, напротив, ему даже стало очень приятно — значит, мол, любит. Бахва с удовольствием совмещал эти два своих разных занятия, но только, пока он тут сторожил то свежую, то старую, то среднюю воду, какие-то отрицательные типы растаскивали у него из теплицы огурцы и помидоры. Однако он додумался и попросил друга-приятеля своего, пожилого Андрадэ, изготовить белым по красному такого рода плакат-предостережение: «Попросите — угощу с большим удовольствием, а украдете — пеняйте на себя!» — и приписал собственной рукой крупными буквами: «Бахва», а над плакатом подвесил мощную лампочку. Кто же бы после этого отважился, если не последний дурак ненормальный? И дело с тех пор пошло и пошло на лад. Что касается Андрадэ, то он был интеллигентом и не имел зимнего пальто. И хоть на лошади он отродясь не сиживал, как и не умел забрасывать лассо, но в ковбойке ничего, перебивался. Бахва любил своего одинокого соседа и жалел его за беспомощность. А Андрадэ очень ценил в душе Бахву, который пленял его своим бескорыстием. Но, слабак по натуре, Андрадэ был не горазд и в выражении своих чувств. Разве что иногда, представляя себе людей, подобных Бахве, на войне, в пылу сражения, он вяло подумывал о том, что именно они, вот такие, отстояли для него родину.
Опасаясь записного рецидивиста Бахвы, никто бы и пальцем не посмел тронуть Андрадэ, но хмель есть хмель, и однажды среди ночи пьяный сосед прицепился к Андрадэ: ты, говорит, назло мне чадишь здесь своей вонючей дрянью, и обложил отборной бранью всю молодую поросль родословного древа Андрадэ. И хотя девиц на выданье во всей фамилии Андрадэ не было, Бахва счел выходку соседа крайне оскорбительной. Узнав обо всем этом ранним утром, по возвращении со своей двойной работы, от другого, кляузного, соседа, Бахва не знал, на кого ему кинуться, чтоб сорвать свою злость, ибо у соседа-виновника нашлись доброжелатели, которые успели укрыть его где-то близ Мцхеты. Бахва не находил себе места, метался туда-сюда как затравленный, а Андрадэ и думать не думал ни о какой мести. Это был такой человек, что, ударь его кто по одной щеке, он бы ни за что не подставил вторую; зачем-де повторно кого-то беспокоить. Он лишь вяло урезонивал Бахву: ну чего ты, право, что тут такого особенного? А Бахва от этого только еще пуще распалялся и, наверно, совсем бы сошел с ума от бешенства, если б, на его счастье, родственники того соседа не подослали к нему делегацию в составе двух человек: одного плюгавого с виду, но весьма красноречивого, с хорошим отрезом на пальто под мышкой, и еще одного — ражего детину с орлиным взором, эксчемпиона по самбо, о котором, забегая вперед, скажем, что его после неудачи с посреднической миссией чуть не турнули с работы — бюллетенить, мол, больше шести месяцев не положено. Андрадэ вначале вяло выговаривал Бахве: и дернуло же, говорит, тебя; да и можно ли вдолбить что-нибудь человеку посредством болевых ощущений, а потом уж и вовсе сник и засел дымить своими наидешевейшимиЯ сигаретами. Вот таким был Андрадэ, и таким вот был Бахва. Только Бахва был в гораздо большей мере грузин.
2 Но у кого из нас нет своих слабостей? У Бахвы был единственный сынишка, худенький, слабенький, с рыжей головенкой и мордашкой, усыпанной веснушками, которые были для Бахвы дороже всего звездного мира. Удивительная все-таки вещь любовь, верно, а? Особенно любовь к своим чадам. Ведь вот, казалось бы, что тут такого особенного: сидит себе мальчик и готовит домашние задания. Но Бахва и дохнуть не смеет, лишним взглядом боится его потревожить, только смотрит со стесненным сердцем ему в затылок. Или, скажем, ребенок поцарапал где-то ножку, ну велика ли в том беда? А спросите-ка вы Бахву — у него аж все нутро горит при одном взгляде на эту чуть заметную царапинку. И как же было не гореть огнем отцовскому сердцу, когда мальчонка был у него такой хилый и бледный, хотя, если по правде, и не будь он таким, любовь все равно вечно бы горела в сердце Бахвы сильным и негасимым огнем. Вот эта огромная, жгучая, бережная любовь и была слабостью Бахвы.
3
Глянул как-то раз Бахва — и что же он видит: стоит женщина, но какая женщина — невиданная красавица, да еще с гордо закинутой головой на точеной шее. Пусть и невольного, врожденного, идущего от самой природы, но такого нахальства Бахва еще не видывал: хорошо, будь себе красивой, прекрасной, даже распрекрасной, но чтоб так беспощадно!.. Нет, нет, это нестерпимо. Вроде бы и дождя нет, и грома не слышно, а Бахву так захлестывает, что не продохнуть. Кто же она все-таки такая, эта женщина, — фигура — прекрасная, ноги — прекрасные, плечи — прекрасные, грудь — и того похлеще, вся бассейная публика так и пялит на нее глаза; какие там физкультура и спорт, кому теперь до плаванья, все побоку... Бахва стоит на суше, а чуть поодаль, на суше же, плавно изогнув стройную шею, стоит эта женщина, это проклятье, и хотя она, невиданная под солнцем, прищурилась, подставив солнцу лицо, все равно она прекрасна, она так и манит, так и притягивает к себе, точно... но до сравнений, до метафор ли Бахве? Нет. Он, мужчина, кобелем переступает в ее сторону шаг, другой, третий... Только и надежды, что хоть лицо у нее не такое же прекрасное; но когда, подойдя поближе, он впился взглядом в ее черты, и когда она, несколько удивленная, чуть пошире приоткрыла — ооо, какие! — глазаа, лицо у нее, проклятущей, оказалось такое, что Бахва напрочь забыл и о ее фигуре, и о ногах, и о семи главных выпуклостях; хотя нет, нет, это не совсем так, зачем врать? Просто остальные достопримечательности женщины на какое-то время отступили на второй план, так как нечто другое, если это можно просто назвать другим, привело человека в полное замешательство; нет, впрочем, скорее не привело в замешательство, а сковало по рукам и ногам, но и не сковало, сказать по правде, а заставило переступить еще один шаг, ну, в общем, мы, по-моему, что-то сами запутались... Короче говоря, женщина оказалась чрезвычайной.
Так они и стоят:
Она, привыкшая ошеломлять, — глядя на него с легкой улыбкой; краешком глаза, он — вовсю пяля на нее глаза и по-дурацки разинув рот. Ей будто все нипочем, однако она явно ждет комплимента — ведь мы же неоднократно повторяли, насколько она женщина, а значит ей приятно будет и в тысячный раз послушать расточаемую прямо в лицо хвалу, а тем паче, когда она только-только вышла из бассейна и стоит теперь, плавно изогнув стройную шею, на солнышке, освеженная, в прекраснейшем настроении, вся как бы медленно расцветая, и ждет от восхищенного ею мужчины словесного тепла. Да не тут-то было. Как-то на свой лад взбудораженный, Бахва отвесил ей такое, что остается только диву даваться!
Вот что он сказал:
— Да ты, — говорит, — женщина, совсем потеряла стыд и совесть!
И хоть за словами его смутно слышалось что-то хорошее, она сначала вздрогнула, потом уставилась на него растерянно широко; открытыми глазами и под конец разразилась возмущением:
— Что значит потеряла совесть! Да как вы смеете!!
Бахва низко опустил голову и спросил едва слышно:
— А разве это не бессовестно — быть такой красивой!