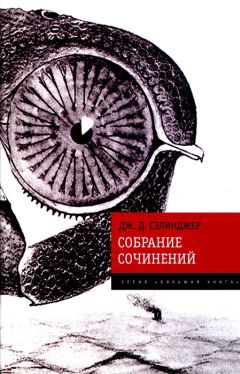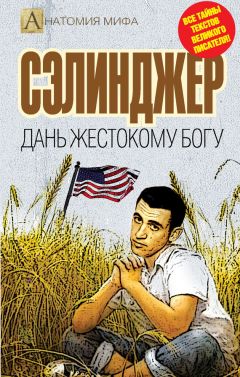— Слышу, слышу… милая.
— Сказал, что — вот так прямо и сказал — сказал, что сидел за столом на кухне один, пил ситро, жевал соленые крекеры и читал «Домби и сын»,[256] как вдруг ни с того ни с сего на другую табуретку садится Иисус и спрашивает, можно ли ему тоже ситро налить. Только маленький стаканчик — вот так прямо и сказал. То есть он постоянно такое говорит, однако полагает себя вправе что-то советовать мне! Я от этого просто в ярости! Так бы и двинула! Честно! Как будто сидишь в дурдоме каком-то, а другой больной врачом переоделся, подходит к тебе и давай пульс щупать… Кошмар какой-то. Все трещит, трещит и трещит. А если не трещит, так по всему дому свои вонючие сигары курит. Меня уже так воротит от этого сигарного дыма, что сдохнуть проще.
— Сигары — это балласт, милая. Чистый балласт. Если б он не держался за сигару, у него бы ноги от земли оторвались. И мы б никогда больше нашего Зуи не увидели.
В семействе Глассов было несколько асов вербального пилотажа, но это последнее замечание безопасно передать по телефонным проводам мог, наверное, только Зуи — он один настолько владел собой. Или так полагает ваш рассказчик. Фрэнни тоже, наверное, это уловила. Так или иначе, она вдруг поняла, что на другом конце провода — Зуи. Она поднялась — медленно — с кровати.
— Ладно, Зуи, — сказала она. — Ладно.
Не вполне сразу:
— Извини — что?
— Я говорю: ладно, Зуи.
— Зуи? Что такое?.. Фрэнни? ты там?
— Я тут. Просто хватит, ладно? Я знаю, что это ты.
— Что ты вообще мелешь такое, милая? В чем дело? Ты про какого Зуи?
— Зуи Гласса, — ответила Фрэнни. — Ну хватит, прошу тебя. Это не смешно. Я, можно сказать, только-только себя нащупала…
— Ты сказала — Глаз? Зуи Глаз? Норвежец этот? Крупный такой блондин, спортс…
— Все, Зуи. Перестань, прошу тебя. Хорошенького понемножку. Это не смешно… Если тебя вдруг интересует, мне сейчас абсолютно мерзко. Поэтому хочешь мне сказать что-нибудь особое, так говори быстрей и больше меня не трогай. — Это последнее подчеркнутое слово на странный манер отклеилось, будто на него не собирались ставить ударение.
В трубке повисло чудное молчание. И на него последовала чудная реакция. Фрэнни сама встревожилась. Снова села на край отцовой кровати.
— Я не собираюсь трубку бросать, ничего такого, — сказала она. — Но я — я не знаю… Я устала, Зуи. Если честно, я прямо больше уже не могу. — Она прислушалась. Однако ответа не воспоследовало. Фрэнни закинула ногу на ногу. — Ты можешь так хоть весь день, а я нет, — сказала она. — Я тут ведь только принимаю. А это, знаешь, не сильно приятно. Ты думаешь, все вокруг из железа. — Послушала. Заговорила было снова, но умолкла, когда услышала, как прочищается голос.
— Я не думаю, что все из железа, дружок.
Эта смиренно простая фраза, казалось, встревожила Фрэнни гораздо сильнее возможного зависшего молчания. Она быстро дотянулась и выхватила сигарету из фарфоровой шкатулки, но даже не изготовилась ее зажечь.
— Ну а кажется, что думаешь, — сказала она. Послушала еще. Подождала. — То есть, ты зачем-то специально позвонил? — резко спросила она. — То есть ты почему-то особенному мне звонишь?
— Нипочему особенному, дружок, нипочему особенному.
Фрэнни подождала еще. Затем трубка заговорила снова.
— Наверное, позвонил более-менее сказать, чтоб ты не бросала Иисусовой молитвы, если не хочешь. В смысле — это твое дело. Твое дело. Черт, это славная молитва, и пусть только кто попробует тебе что сказать.
— Я знаю, — ответила Фрэнни. Очень нервно потянулась к спичечному коробку.
— По-моему, я вообще по правде не пытался отвратить тебя от этой молитвы. По крайней мере, мне так кажется. Не знаю. Я не знаю, что у меня вообще в башке моей дебильной происходило. Но одно я знаю точно. У меня, к чертовой матери, нет права выступать таким духовидцем. У нас в семье их и так навалом. Вот что меня беспокоит. Вот что меня даже пугает немного.
Фрэнни воспользовалась преимуществом легкой паузы, чтобы чуточку выпрямиться, словно хорошая осанка — или осанка получше — возможно, в любой момент отчего-то придется кстати.
— Меня это немножко пугает, но не приводит в ужас. Давай напрямик. В ужас — не приводит. Потому что ты об одном забываешь, дружок. Когда ты впервые ощутила позыв — призвание — читать молитву, ты не ринулась тут же искать по всему свету себе наставника. Ты вернулась домой. Ты не только приехала домой, но еще и совсем расклеилась к чертовой матери. Поэтому если посмотреть с определенной точки зрения, тебе по праву полагается лишь тот низкосортный духовный совет, который мы тут способны тебе дать, и не более того. По крайней мере, ты знаешь, что никаких скрытых дебильных мотивов в этом дурдоме не будет. Чем бы мы ни были, дружок, сомнений мы не внушаем.
Фрэнни вдруг одной рукой попробовала подкурить сигарету. Успешно открыла коробок, но от единственного касания спички он полетел на пол.
Она быстро нагнулась и подняла его, а горсть спичек оставила лежать.
— Я тебе одно скажу, Фрэнни. Одно я знаю. Только не огорчайся. Тут ничего плохого. Но если ты хочешь жизни в Боге, тебе следует прямо сейчас понять, что любое религиозное действие из тех, что творятся в этом дебильном доме, пролетает мимо тебя. Тебе даже не хватает соображалова выпить, если тебе приносят чашку освященного куриного бульона — а только такой бульон Бесси в этом дурдоме всем и предлагает. Поэтому ты мне просто скажи, просто возьми и скажи, дружок. Если б ты пошла и стала искать по всему свету себе наставника — какого-нибудь гуру, святого какого-нибудь, — чтобы он научил тебя читать Иисусову молитву как полагается, что хорошего бы тебе это принесло? Черт возьми, как ты собираешься узнать в лицо настоящего святого, если даже не признаёшь кружку освященного куриного бульона у себя под носом? Скажи ты мне, а?
Фрэнни уже сидела почти ненормально прямо.
— Я тебя просто спрашиваю. Я не хочу тебя огорчать. Я тебя огорчаю?
Фрэнни ответила, но ответ ее, очевидно, не долетел.
— Что? Я не слышу.
— Я говорю — нет. Откуда ты звонишь? Ты где сейчас?
— Ох да какая разница? В Пиэре, Южная Дакота, елки-палки. Послушай меня, Фрэнни, — прости, не надо злиться. Но послушай меня. У меня еще остались мелочь-другая, совсем мелкие, а потом я отстану, честно. Но знала ли ты — просто кстати пришлось, — что мы с Дружком ездили к тебе в театр летом? Знала, что мы смотрели тебя в «Удалом молодце» однажды вечером? И убийственно жарким вечером притом, должен сказать. Но ты знала, что мы приезжали?
Похоже, требовался ответ. Фрэнни встала, затем тут же села. Слегка отодвинула от себя пепельницу, будто пепельница ей мешала.
— Нет, я не знала, — сказала она. — Никто не сказал ни… Нет, я не знала.
— Ну так мы приезжали. Да. И я тебе скажу, дружок. Ты была хороша. И когда я говорю «хороша», я имею в виду — хороша. Ты собой скрепляла весь этот чертов бардак. Даже эти печеные на солнце омары в зале понимали. Теперь же я слышу, что с театром ты покончила навсегда — а я слышу, я разное слышу. И я помню ту речугу, с которой ты вернулась, когда закончился сезон. Ох как же ты меня, Фрэнни, раздражаешь! Прости, но раздражаешь. Ты совершила великое, поразительное, к черту, открытие, что в актерской профессии под завязку наемников и мясников. Насколько я помню, ты даже держалась, как будто тебя сокрушает, что не все капельдинеры — гении. Да что с тобой такое, дружок? Где твои мозги? Если ты получила уродское образование, по крайней мере, употребляй его, употребляй. Отныне можешь читать Иисусову молитву хоть до судного дня, но если не осознаёшь, что для жизни в Боге смысл имеет только одно — отстраненность, я не понимаю, как тебе вообще удастся сдвинуться хотя бы на дюйм. Отстраненность, дружок, и только отстраненность. Отсутствие желаний. «Прекращение всяких стремлений». А актера творит, если хочешь знать дебильную правду, именно эта канитель с желаньями. Почему ты меня вынуждаешь рассказывать то, что и так знаешь? Где-то по дороге — не в одном дебильном перерождении, так в другом, если угодно, — у тебя было стремленье стать не только актером или актрисой, но — хорошим актером. И теперь ты на нем залипла. Ты не можешь просто взять и отвернуться от собственных стремлений. Причина и следствие, дружок, причина и следствие. Теперь ты можешь только одно — единственное в Боге: играть. Играть для Бога, если хочешь — быть актрисой Господа Бога, если хочешь. Что может быть чудеснее? Можешь хоть попытаться, если охота, — в попытке ничего плохого нет. — Настала небольшая пауза. — Только лучше займись делом, дружок. Лишь отвернись — и пески текут от тебя прочь к чертовой матери. Уж поверь мне на слово. Тебе повезет, если в этом ощутимом дебильном мире тебе хватит времени чихнуть. — Еще одна пауза, еще незначительнее. — Я раньше из-за этого переживал. Теперь уже так не переживаю. По крайней мере, по сию пору люблю череп Йорика.[257] По крайней мере, у меня всегда находится время любить череп Йорика. Я хочу, дружок, чтобы после смерти от меня остался почтенный дебильный череп. Я стремлюсь к такому почтенному дебильному черепу, как у Йорика. И ты, Фрэнни Гласс, — тоже. Ты тоже, ты тоже… Ах господи, да что толку разговаривать? У тебя было то же самое дебильное и чучельное воспитание, что и у меня, и если ты до сих пор не знаешь, какой череп себе хочешь после смерти и как тебе его заслужить, — в смысле, если ты до сих пор не знаешь хотя бы, что если ты актриса, ты должна играть, — то разговаривать без толку, а?