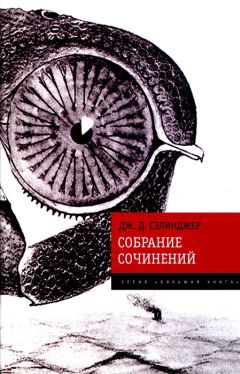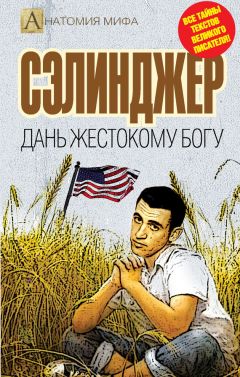— Неужто он ушел уже так далеко? — вскричал он. — Ах, тогда он равен десяти тысячам таких, как я. Никакого сравнения меж нами. Гао зрит духовное устройство. А удостоверившись в сути, забывает обыденные подробности; сосредоточившись на внутренних свойствах, упускает из виду внешнее. Он видит то, что хочет видеть, а не то, чего видеть не хочет. Он созерцает то, что должен, и пренебрегает тем, на что смотреть не нужно. Гао — столь умный ценитель лошадей, что способен оценить нечто превыше лошади.
Когда коня доставили, он и впрямь оказался превосходным животным.
Я привел здесь эту историю не просто потому, что изо всех сил непременно советую родителям или старшим братьям десятимесячных малышей хорошую прозу вместо соски, — вовсе не поэтому. Ниже следует рассказ о дне свадьбы в 1942 году. Рассказ, по моему мнению, самодостаточный, у него есть начало и конец, а также смертность человеческая — все в нем свое. Однако, сдается мне, я должен отметить, поскольку сим фактом располагаю, что жениха сегодня, в 1955 году, уже нет среди живых. Он покончил с собой в 1948-м, когда проводил с женой отпуск во Флориде… Хотя, несомненно, клоню я вот к чему: после окончательного ухода жениха со сцены мне так и не удалось припомнить такого человека, кого хотелось бы отправить на поиски лошадей вместо него.
В конце мая 1942 года потомство — числом семеро — Леса и Бесси (Гэллахер) Гласс, ушедших на покой артистов варьете сети «Пантажис»,[259] разлетелось, как гласит нелепое выражение, по всем Соединенным Штатам. Я, к примеру, по старшинству второй, лежал в гарнизонном лазарете Форт-Беннинга,[260] Джорджия, с плевритом — небольшим сувениром, доставшимся мне после тринадцатинедельной пехотной муштры. Двойняшки Уолт и Уэйкер расстались целым годом ранее. Уэйкер находился в лагере отказников в Мэриленде, а Уолт где-то на Тихом океане — либо на пути туда — со своей частью легкой артиллерии. (Мы никогда не знали наверняка, где Уолт в тот или иной миг пребывает. Переписка ему никогда не давалась, и после его смерти до нас дошло очень мало информации о нем, почти никакой. В конце осени 1945 года он погиб в Японии от невыразимо нелепого несчастного случая, какие бывают в армии.) Тяпа, старшая из моих сестер, которая хронологически идет между двойняшками и мной, служила энсином в «Волнах»[261] и время от времени бывала по службе на военно-морской базе в Бруклине. Все весну и лето она занимала в Нью-Йорке ту квартирку, которую мы с моим братом Симором, считайте, почти забросили после призыва. Двое младших в семье — Зуи (мальчик) и Фрэнни (девочка) — жили с родителями в Лос-Анджелесе, где отец по заказу киностудии спекулировал талантами. Зуи сравнялось тринадцать, Фрэнни — восемь. Оба каждую неделю выступали в детской радиовикторине, называвшейся — с пикантной иронией, вероятно, типичной как на одном побережье, так и на другом, — «Что за мудрое дитя». Периодически, как, возможно, мне следует здесь упомянуть, — точнее, в тот или иной год, — все дети в нашей семье еженедельно выступали наемными «гостями» программы «Что за мудрое дитя». Мы с Симором появились там первыми еще в 1927-м, в восемь и десять лет соответственно: программа тогда «выпускалась» из одного зала для собраний старого отеля «Мёрри-Хилл». Всемером мы все, от Симора до Фрэнни, выступали под псевдонимами. Что может показаться несколько аномальным, если учитывать, что породили нас артисты варьете — секта, обычно не чурающаяся публичности, — но мама однажды прочла в журнале статью о тех крестиках, которые приходится тащить детям-профессионалам, — об их отчуждении от нормального, предположительно желанного общества, — и по этому поводу стояла на своем железно, ни разу, ни единожды не отступив. (Сейчас отнюдь не время дискутировать, следует ли большинство или даже всех детей-«профессионалов» объявлять вне закона, жалеть или без лишних угрызений казнить как нарушителей спокойствия. В данный момент я сообщу только, что наш совокупный доход от программы «Что за мудрое дитя» позволил шестерым нам закончить колледж, а седьмая сейчас в процессе.)
Самый старший наш брат Симор — почти исключительно о нем я и веду нынче речь — служил капралом в тех частях, что в 1942 году еще назывались «Авиационным корпусом».[262] Расквартирован Симор был на базе «Б-17» в Калифорнии, где, как я предполагаю, трудился ротным писарем. Можно добавить, причем не вполне в скобках, что в семье он безусловно был самым неплодовитым корреспондентом. Пожалуй, за всю жизнь у меня и пяти писем от него не наберется.
Утром либо 22-го, либо 23-го мая (письма в нашей семье никто никогда не датировал) в ногах моей койки Форт-Беннингского лазарета оказалось письмо от сестры моей Тяпы; мою диафрагму в тот миг обматывали клейкой лентой (обычная медицинская процедура для больных плевритом, предположительно гарантирует, что пациент не развалится от кашля на куски). Когда пытка завершилась, я прочел письмо. Оно сохранилось у меня до сих пор и ниже приведено дословно:
Дорогой Дружок,
я ужасно тороплюсь паковать вещи, поэтому письмо короткое, но по делу. Адмирал Задощип решил, что в целях помощи фронту должен слетать в неведомые дали, и придумал взять с собой секретаршу, если я буду паинькой. Меня от такого просто с души воротит. Ладно Симор — там будут бараки из гофры на промерзлых авиабазах, мальчишеский кадреж наших воинов и эти кошмарные бумажные штуки в самолетах, куда тошнят. Но штука в том, что Симор женится — да, женится, так что не отвлекайся, пожалуйста. Я там быть не смогу. Из-за этой поездки отсутствовать я буду сколько угодно — от полутора месяцев до двух. Девицу я видела. По-моему, она полный ноль, но выглядит потрясно. На самом деле, я не знаю, ноль она или нет. В смысле, за весь тот вечер, когда мы познакомились, она едва произнесла два слова. Только сидела, улыбалась и курила, поэтому так говорить нечестно. Про их роман я совсем ничего не знаю, кроме того, что встретились они, явно когда Симора зимой отправили в Монмут.[263] Мамаша — конец всему, затычка во всякой художественной бочке, дважды в неделю видится с хорошим юнгианцем (дважды за вечер спрашивала меня, ходила ли я когда-нибудь к аналитику). Сказала, что ей просто очень хочется, чтобы Симор соотносился с большей массой людей. И тут же, не переводя дух: она его просто обожает, хотя и т. д. и т. п., и слушала его истово все те годы, что он выходил в эфир. Больше я ничего не знаю — только ты обязан приехать на свадьбу. Я тебя ни за что не прощу, если не выберешься. Я не шучу. Мама и папа сюда с Побережья не доедут. Во-первых, у Фрэнни корь. Кстати, ты ее слышал на прошлой неделе? Она изумительно долго распространялась о том, как в четыре года летала по всей квартире, когда дома никого не было. Новый диктор хуже Гранта — если такое возможно, даже хуже Салливана в старину. Сказал, что наверняка она просто грезила, будто может летать. Малышка же стояла на своем, просто ангел. Сказала, что уверена — она умела летать, потому что когда приземлялась, у нее на пальцах всегда была пыль от лампочек. Очень хочется ее увидеть. Тебя тоже. В общем, ты обязательно должен быть на свадьбе. Уйди в самоволку, если надо, но прошу тебя — поезжай. В три часа 4 июня. Все очень нецерковно и эмансипированно, в доме ее бабушки на 63-й. Их женит какой-то судья. Номера дома не знаю, но он ровно через пару дверей от того места, где раньше в роскоши проживали Карл и Эми. Я отобью телеграмму Уолту, но мне кажется, его уже отправили. Прошу тебя, Дружок, поезжай. Симор весит примерно как котенок, и на лице у него такой экстаз, что с ним даже не поговоришь. Может, все сложится, но 1942 год я ненавижу. Наверное, буду ненавидеть его до самой смерти, просто из принципа. Люблю и до встречи, когда вернусь.
Тяпа
Через пару дней после письма меня выписали из лазарета на, так сказать, попечение примерно ярдов трех клейкой ленты, которыми мне обмотали грудную клетку. Затем началась крайне усердная недельная кампания по добыче увольнительной на посещение свадьбы. Мне в конце концов удалось ее добиться прилежным подхалимажем перед командиром моей роты — по его собственному признанию, человеком начитанным: его любимым автором, по счастью, был и мой любимый автор, Л. Мэннинг Вайнз. Или Хайндз. Несмотря на эту духовную меж нами связь, мне удалось выклянчить лишь три дня отпуска, который в лучшем случае позволил бы мне только доехать поездом до Нью — Йорка, посмотреть церемонию, заглотить, не жуя, где-нибудь ужин и мокрому как мышь вернуться в Джорджию.
Все общие вагоны в 1942 году проветривались, насколько я помню, лишь номинально, в них изобиловала военная полиция и пахло апельсиновым соком, молоком и ржаным виски. Ночь напролет я кашлял, читая выпуск комиксов «Ас»,[264] который мне кто-то любезно одолжил. Когда поезд прибыл в Нью-Йорк — в десять минут третьего в день свадьбы, — я уже весь изошел на кашель, в общем и целом вымотался, взмок, помялся, а клейкая лента моя чесалась адски. В самом Нью-Йорке стояла неописуемая жара. У меня не было времени сперва заскочить к себе на квартиру, поэтому багаж, состоявший из довольно унылой холщовой сумки на молнии, я оставил в стальной ячейке на Пенсильванском вокзале. К вящему моему раздражению, пока я бегал по Швейному кварталу в поисках пустого такси, второй лейтенант Сигнального корпуса,[265] которого я, очевидно, проглядел и не отдал ему честь, переходя Седьмую авеню, вдруг вытащил авторучку и записал мою фамилию, личный номер и адрес части — на виду у любопытствующей кучки гражданских.