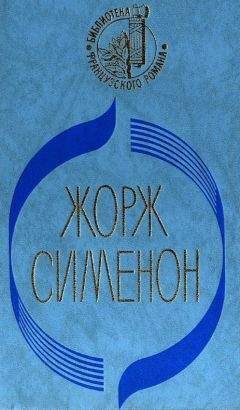— Как она?
Он спал с нею в одной постели, но они даже словом не перемолвились. Вне всякого сомнения, мама и утром, и вечером лежит с закрытыми глазами. И ему приходится спрашивать о ее состоянии у меня.
— Страдает. Три первых дня самые трудные.
— Она хоть что-нибудь ест?
— Спускается, что-то берет из холодильника, но ждет, пока я уйду.
— О Мануэле она с тобой не говорила?
— Я спрашивала ее.
— И что она сказала?
— Что ничего не знает. Короче, все то же, что говорила в первый день. Мануэла, дескать, объявила, что уезжает домой.
— И ты ей веришь?
— Нет. Я виделась с ее подругой Пилар. Она меня заверила, что быть такого не может, чтобы Мануэла вернулась в Испанию. Она ведь убежала из дому, потому что ей приходилось обихаживать отца и семерых братьев и сестер. У нее там ни минуты свободной не было.
— Что же с ней могло приключиться?
Отец задает мне этот вопрос, но так, словно обращается к себе, и я вдруг вспоминаю про зеленый сундук. И уже открываю рот. Хочу рассказать.
Нет, нет. Я уже готова сплести страшную историю, и отец будет прав, если в ответ пожмет плечами.
Спускается брат.
— Ну что, тебе больше повезло у Эрнандеса, чем мне?
— Удивляюсь, как я оттуда вообще ноги унес. Подошел я к бару и только заговорил о Мануэле, все в хохот. Как я сдержался, не знаю, но не мог же я драться один против десяти. Да, пожалуй, весь зал был бы против меня. Они сообщили, что пять минут назад одна девушка спрашивала о том же, и толкали друг друга локтями.
— Девушка — это я.
— Я понял. Ладно, мне надо поторопиться, чтобы не упустить отца. Правда, я очень бы удивился, если бы он отправился на свидание в такую рань.
— Боюсь, Оливье, ты на ложном пути.
— Да я и сам так думаю. Но раз уж начал, доведу до конца. Раз уж я бросаю университет, мне, в сущности, все равно, что за отцом следить, что ходить на лекции…
Сослуживцы заметили, что последние несколько дней я хожу хмурая, но насчет причин моего плохого настроения они заблуждаются. Правда, в столовой я стараюсь участвовать в разговорах, которые затеваются в нашей маленькой группе.
И вдруг часов около пяти — великая радость. Я работаю в лаборатории, кто-то останавливается у меня за спиной, и я вздрагиваю, услышав голос профессора:
— Не уходите. Вы мне сейчас понадобитесь.
Дрожа от благодарности, я оборачиваюсь, но он уже уходит и не глядит на меня. Неважно. Он подал мне знак. Попросил меня остаться.
Я считаю минуты, и лишь с огромным трудом мне удается сосредоточиться на работе. В шесть, возвещая конец рабочего дня, звенит звонок; большинство переодеваются и уходят. Но несколько человек задерживаются, чтобы что-то доделать.
Лишь в половине седьмого я остаюсь одна в маленькой лаборатории, и ко мне приходит профессор.
— Вы смотрели Жозефа?
— Да.
— Как пульс?
— Нормальный.
— Артериальное давление?
— Тоже.
— Выведите, пожалуйста, его. Удержите?
— Он привык ко мне.
— Похоже, никаких проявлений отторжения нет.
Он боится радоваться: успех все-таки неожидан.
Склонившись над собакой и не выпуская из рук фонендоскоп, Шимек тем же деловым тоном произносит:
— Мне вас очень недоставало.
Я молчу, боясь сказать хоть слово.
— Не ожидал, что вы так отдалитесь от меня.
— Я отдалилась? И вы поверили в это?
— Больше недели вы на меня не смотрите, даже ни разу не подошли ко мне.
— Я не решаюсь вам навязываться.
— Это правда?
— Поверьте, я так страдала от невозможности подойти к вам! Я думала, вы сердитесь на меня.
— За что?
— Не знаю. Я боялась надоедать вам.
— Отведите собаку в клетку. — Шимек провожает меня взглядом. Лицо у него серьезное. — Даже не верится, что я заблуждался. Знаете, после всего, что я пережил, начинаешь понимать цену истинной дружбы.
С неожиданной горячностью я произношу:
— Ой, я бы так хотела…
— Что?
— Я даже не сумею сказать. Утешить вас. Нет, это слишком претенциозно. Дать вам немножко человеческого тепла. Я ведь все время думала о вас. Представляла, как вы сидите с дочкой.
Изумленно и все еще с недоверием он смотрит на меня.
— Это правда? — Крепко, чуть ли не до боли он сжимает мне руки. — Спасибо. Я верю вам. Как нелепо все! Мы оба не верили друг другу. Но больше этого не случится.
У него хватает душевной тонкости: он не целует меня, лишь смотрит с признательностью и напускным отеческим тоном говорит:
— Вы, наверно, проголодались? Бегите-ка ужинать.
— А вы?
— Мне нужно писать отчет. Я прихватил сандвич и в термосе кофе.
Я не предлагаю ему остаться и помочь. Писать отчеты он предпочитает в полном одиночестве, в такие часы даже его секретарша не имеет доступа к нему в кабинет.
— Желаю успеха! — говорю я, улыбаясь глазами, губами, лицом. У меня как камень с души свалился, и, забыв про лифт, я вприпрыжку бегу по лестнице.
Недоразумение! Между нами было просто недоразумение! Как он сказал, мы оба не верили друг другу.
Я качу на мопеде домой и только об этом и думаю. Неожиданно мне в голову приходит одна мысль. Раз такое недоразумение произошло между профессором и мной, значит, оно может произойти с другими и, вероятно, происходит сотни раз на дню.
Тогда почему такое не могло случиться между нами и мамой? Я говорю «между нами», поскольку знаю, что и отец, и брат в большей или меньшей степени разделяют мои чувства.
Все, что она делает, раздражает нас, я уже не говорю про «девятины». Мы уже давно считаем, что она психически больна, может, не в тяжелой форме, но больна, и я сама неоднократно подумывала, не вызвать ли к ней психиатра.
А может быть, она, как Шимек, ждет от нас шага навстречу, взгляда?
Я не смела взглянуть на него. Боялась, как бы он не решил, будто я обрадовалась, увидев, что место около него освободилось. С моей стороны это было бы чудовищно. Поэтому я держалась в стороне, ждала, когда он сам подаст мне знак. А он ждал, чтобы это сделала я. Но в конце концов решился заговорить, и недоразумение рассеялось.
А мы разве когда-нибудь говорили открыто с мамой? Рассказывали ей, что у нас на душе? И разве мы не относились к ней так, словно она вроде и не принадлежит к нашей семье?
Ведь это же в основном из-за нее я никогда не приглашаю к себе подруг, а Оливье — приятелей. И к отцу тоже никто не ходит. Мы стыдимся ее. Опасаемся, что ее сочтут противной или с заскоками.
Неужели она этого не понимает? Или уже давно поняла и потому страдает? Может быть, в этом одна из причин ее запоев?
Мы уходим на весь день и оставляем ее одну. С утра разъезжаемся на мопедах, и редко кто из нас приходит домой обедать. Вечерами садимся за стол, и ни разу никто из нас не поинтересовался, как она провела день. После ужина отец запирается в кабинете, брат либо уходит, либо сидит у себя в комнате.
Кто все это начал? Но сколько бы я ни ломала себе голову, ответа мне не найти: корни уходят в слишком далекое прошлое.
Но если в основе лежит недоразумение, тогда все, что я думала о маме, неверно, и меня начинает грызть совесть. Как хочется сделать так, чтобы она жила с нами, как в нормальной семье, где царят доверие и любовь.
Профессор сжал мне руки и смотрел на меня взглядом, немножко еще печальным, но уже полным нежности. Я счастлива и хочу, чтобы все были счастливы.
Дома отец и брат уже сидят за столом и едят омлет. В кухне я нахожу тарелки из-под супа.
— Кто готовил? — спрашиваю я.
— Я, — почему-то виноватым тоном отвечает брат. — Открыл банку супа с горошком и взбил в кружке полдюжины яиц.
— К маме кто-нибудь заходил?
Они смотрят на меня с извиняющимся видом: дескать, в голову не пришло.
— Ладно, схожу спрошу, не нужно ли ей чего-нибудь.
Стучусь и открываю дверь. Мама сидит на кровати и безучастно смотрит на меня.
— Чего тебе нужно? — спрашивает она. — Опять будешь шпионить за мной?
— Ты что? Я пришла узнать, не нужно ли тебе чего.
— Ничего мне не нужно.
— Никто не приходил? Никто не звонил?
Мама язвительно усмехается.
— Ах да, я и забыла, что даже больная обязана сторожить дом.
Глаза у нее злые, злой голос. Видимо, потребовались годы и годы разочарований, чтобы она стала такой.
Была ли она когда-нибудь счастлива? Наверно, уже в детстве брат и сестры дразнили ее уродиной. А может, отец и вправду женился на ней только потому, что она была дочкой полковника. Догадывалась ли об этом мама, и если да, то с самого ли начала? Или глаза у нее открылись лишь со временем?
Я живу с нею со дня своего рождения, а сейчас вдруг убеждаюсь, что совершенно не знаю ее. Когда я смогла судить маму или, верней, решила, что имею на это право, она уже была такой, как сейчас, и докопаться до прошлого не было никакой возможности.