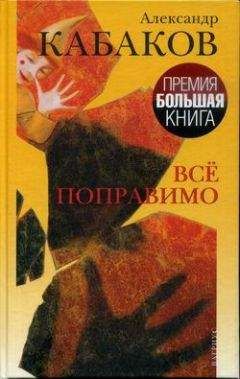Потом Салтыков возвращается в вестибюль, пересекает его, тяжело опираясь на палку, — к ночи нога начинает ныть, садится на диван в дальнем углу. В вестибюле по вечернему позднему времени потушен почти весь свет, только торшер рядом с диваном, на котором устроился Салтыков, включен. Здесь можно рассмотреть конверт, который сын, вспомнив в последнюю минуту, сунул в карман куртки, можно даже прочитать письмо, если не забыл в палате очки… Очки на месте, висят на груди, Салтыков долго примащивается, чтобы свет падал, как надо, потом долго рассматривает конверт. Марка американская, обратный адрес тоже американский, но он ничего не говорит Салтыкову. А русский адрес бывшей салтыковской конторы написан без ошибок, но почерк явно не русский. С трудом оторвав узкую полоску с краю конверта, Салтыков вынимает листок, разворачивает его и начинает читать.
«Уважаемый господин Михаил Салтыков, это письмо Вы получаете от сына Вашей старой знакомой Татьяны Беркович. Я сожалею, сообщая Вам, что мама умерла от сердечной атаки…»
Салтыков не дочитывает письма до конца, складывает листок, прячет его в конверт и аккуратно засовывает конверт в карман куртки. Сбрасывает очки, повисающие на груди, и, изо всех сил опираясь на палку, встает с продавленного дивана, снова пересекает вестибюль, возвращаясь к входным дверям. Перед тем как выйти наружу, натягивает, перекладывая палку из руки в руку, куртку в рукава и даже застегивает ее наглухо. Охранник, сидящий рядом с маленькой тумбочкой справа от дверей, смотрит на старика внимательно, но ничего не говорит. Пройдусь перед сном, не запирайте пока, молодой человек, хрипло просит Салтыков и выходит под мелкий снег, все сыплющийся с черного неба.
Длинная прямая аллея между огромными елями, верхушки которых растворяются в темной вышине, ведет к воротам. Идти до них хромому старому человеку не меньше десяти минут.
По дороге Салтыков думает о письме из Америки и о том телефонном звонке, о котором рассказал сегодня сын. Звонила какая-то женщина, сказала, что звонит из Австралии, действительно, чувствовалось, что звонит черт его знает откуда, — слова наталкивались одно на другое, не успевая одолевать расстояние. Говорила странно: например, поинтересовалась, что у Михаила Леонидовича с ногой, а когда Ленька ответил, что ничего страшного, последствия ранений минимальные, охнула — как, он был ранен?! Ленька предложил ей номер мобильного, который есть у отца в палате, но она, ничего на это не ответив, отключилась.
Думая о письме и телефонном звонке, Салтыков прислушивается к себе. Что-то дергается внутри, когда в голове проплывает слово «Австралия», он даже делает несколько непроизвольно быстрых шагов, сильно припадая на больную ногу, словно хочет бежать к воротам и за ворота, в белесую мглу, до самой Австралии… Но тут же останавливается, оглядывается, будто проверяя, не видел ли кто его попытки, и соображает, что дернулось просто сердце, устал за день, надо будет принять перед сном то новое лекарство, а то к утру точно начнется аритмия.
У ворот Салтыков останавливается, достает из кармана конверт и старательно рвет письмо — надвое, еще раз надвое, в мелкие клочки, и, сложив аккуратной пачечкой обрывки, втыкает их глубоко в снег, засыпавший до краев урну. Вот и нет Тани.
А Австралия далеко, да и кончилась давно Австралия, только сердце все еще сбивается с ритма от этого слова.
На обратном пути Салтыков думает о том, о чем думает всегда, хотя старается не думать, но разве можно заставить себя не вспоминать жизнь, которая была? И никакая, даже самая проницательная немка ничего не может с этим поделать.
Салтыков думает о доносах, о пропавшем кладе, о растворившихся без следа деньгах… Бог испытывал, думает он, ну, хорошо, пусть Бог, но интересно, выдержал я это испытание или нет? Надеюсь, что выдержал. Ведь жив до сих пор, значит…
Салтыков вспоминает людей — убитого друга, и еще живого друга, который, наверное, будет завтра звонить из Праги и болтать по телефону чушь, тратя дорогие минуты, и человека по имени Рустэм, который уже, наверное, давно забыл о Салтыкове, у него много новых проблем там, где он теперь, и совсем посторонних ему молодых людей, с которыми несколько лет назад было связано все самое важное, как казалось тогда, в его жизни, и которые теперь исчезли неведомо где, Рома, Гарик и еще один, как же его звали, Коля, Толя, не имеет значения, и эта странная женщина, Вера, которая вдруг явилась месяца три назад проведывать, нелепо одетая пожилая женщина, живет на сбережения, жаловалась на одиночество…
Всех и не вспомнишь. Вот был молчаливый человек, каждый день видел Салтыков перед собою его спину, по которой ползала вправо-влево косица, тихо гудел мотор, тихо пело, подмигивая зеленым огнем, радио, потом ужинали вдвоем — где теперь этот человек? Бог его знает, так и не вернулся из своего Железнодорожного, исчез, страна большая.
Салтыков отвлекается от воспоминаний, представляя себе, как через полчаса Ленька и Ира подъедут к воротам, ворота поползут вбок, а собаки в доме будут разрываться счастливым лаем, потом их покормят, выпустят во двор на пять минут, вернувшись, они нанесут на ногах и животах снега, топая когтями, поднимутся по лестнице, три старые ожиревшие таксы, и улягутся спать там, где спят всегда, — возле кресла в кабинете…
Интересно, кто еще жив из нашего класса, вдруг приходит в голову Салтыкову. Имена уже все забылись… Володька Сарайкин, Толька… какая-то армянская фамилия, и сестра у него была… Нет, одноклассников не вспомнить. А кто помнится? Вот Витька Головачев, он-то жив, наверное, они там, в Германии, долго живут… Непонятно откуда вплывает в память университетская активистка, пытавшаяся когда-то спасти Салтыкова Михаила от исключения… сколько же лет прошло?., сорок или больше… Да, много народу забылось, а ведь были, жизнь от них зависела, судьба…
Отца и мать Салтыков не вспоминает никогда, но они все равно снятся ему каждую ночь. Чаще всего снится, будто он, Салтыков, приходит навещать родителей, родители живут вдвоем в маленькой чистой комнате, в той самой, в которой на самом деле теперь живет Салтыков, и во сне он знает, что это его комната, но не удивляется, что живут в ней родители. Разговаривать с ними не о чем, они и так все знают, и Салтыков томится, ожидая, когда сон кончится. Повидались — и хватит пока…
Перед дверью в корпус Салтыков долго вытирает ноги и концом палки счищает снег с боков высоких ботинок, которые надевает для прогулок, никогда не зашнуровывая доверху. Пожелав охраннику спокойной ночи, сворачивает из вестибюля в правый коридор и медленно, стараясь, насколько получается, не топать и не стучать палкой, идет к своей палате.
Там за столом, придвинутым вплотную к подоконнику, сидит, не зажигая света, его жена. За окном снег сверкает под фонарем, и сверкает промерзшее стекло, на фоне которого чернеет женский профиль. Когда-то в Одессе ходил по пляжу веселый юноша, вырезывал профили из черной бумаги, наклеивал их на белые картонки и продавал, беря по полтиннику за портрет. Салтыков отдал ему полтинник и долго разглядывал профиль своей молодой красивой жены, а она смотрела на свое изображение недоверчиво и говорила, что не может быть у нее такой курносый нос. А нос-то остался таким же, с чуть задранным кверху кончиком, усмехается в темноте Салтыков.
Сев на свою постель, через стол от жены, Салтыков находит рукой ее руку, лежащую на столе. Женская кисть еле заметно напрягается, слабо сжимается в маленький кулак, но Салтыков не убирает руки, а плотнее накрывает этот сухой кулачок ладонью, обнимает его пальцами, прячет весь и сидит так, стараясь не шевелиться.
Даже если она знала, в кого целится, это не имеет значения, думает Салтыков. Ничего уже не имеет значения, просто сидим вместе, глядя в ночь, вот и все. Хорошая была жизнь.
май 2002 — июнь 2003
Мир сошел с ума с этой борьбой против курения… — здесь и далее по-английски за незнакомку говорит Захар Артемьев, которому автор выражает признательность.
Мне тоже чертовски хочется курить… Придется отвлекаться беседой, если вы не против. Итак, вы удовлетворены? С квартирой и счетами полный порядок? А о слежке, об этом молодом человеке — вон он, кстати, стоит возле бара со своим рюкзаком — вообще забыли? И правильно, не стоит думать о том, что от вас не зависит…
Вообще-то мой родной немецкий…