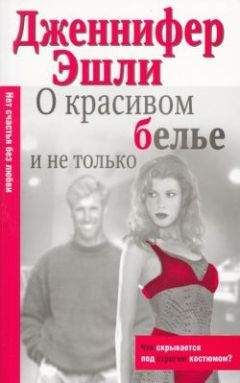Так они и сделали.
Впечатленный этой историей, я начал вычитать и складывать. Хрен выходил небольшой, совсем небольшой. До обидного.
И я мучительно соображал, как это император прикладывал свой хрен к чертежам, или доверил на это дело хрен секретаря, или что там еще у них случилось. Отчего, скажем, они не позвали в компанию фрейлин — тогда пропускная способность железных дорог бы у нас несколько увеличилась.
Но тут вмешался Гольденмауэр, который, как оказалось, все внимательно слушал. Леня сразу начал показывать свою образованность и надувать щеки. Дескать, Русский путь — это всего лишь пять футов ровно, и никаких особых и дополнительных хренов тут не предусмотрено.
Что-то было в этих рациональных объяснениях скотское. Унизительное было что-то в них.
— Ишь, га-а-ндон, — прошипел Рудаков еле слышно. И мы пошли дальше в молчании. Из-за поворота действительно показалась станция, обнесенная высоким забором от безбилетных пассажиров. Рудаков тут же нашел в этом заборе дырку. Мы, тяжело дыша как жабы перед дождем, пролезли сквозь нее на платформу — прямо в трубный глас подходящей электрички.
Мы впали в вагон, называемый “моторным”, — это вагон, который дрожит дорожной страстью, дребезжит путевым дребезгом. Сядешь в такой вагон — разладишь навеки целлюлит, привалишься щекой к окну — жена дома решит, что попал в драку.
Гольденмауэр что-то тихо говорил своей спутнице, Рудаков спал, а я тупо глядел в окно. Бескрайние дачные просторы раскрывались передо мной. Домики летние и дома зимние, сараи под линиями электропередач, гаражные кучи, садовые свалки — все это было намешано,
сдобрено навозом, мусором, пыльной травой и тепличными помидорами. Всюду за окном нашего зеленого вагона была жизнь — как на картине художника Ярошенко.
Я вспомнил, как ехал так же, как сейчас, тоже ехал на чужой праздник и на чужую дачу, ехал долго — и все среди каких-то пыльных полей. Жара наваливалась на Подмосковье безжалостным солнцем, казалось, на окрестности вылили с неба целый ушат радиации.
Вдоль дороги стояли кирпичные кубические дома в три этажа. Было такое впечатление, что по окрестностям пробежал великан Гаргантюа и рассыпал повсюду свои красные кубики.
Если присмотреться, то можно было понять — на какой стадии оборвался жизненный путь хозяина. Этот успел подвести дом под крышу, а этот только вырыл яму, и тут же его взорвали в “мерседесе”. Вот поросший лопухами фундамент застреленного бандита, а вот черные провалы вместо окон — хозяин бежал в Гондурас.
Около одного дома, правда, была построена ротонда в духе классицизма и чуть подальше — китайская пагода. Пагода, казалось, служила сортиром.
Заграница приблизилась к дому этого человека безо всяких побегов.
Я размышлял о новой формации привидений — учитывая, сколько тел закатано в бетонные фундаменты этих домов. Тем более что покупать дом убитого у коллег всегда было плохой приметой.
Но тут я приехал на вполне достроенную дачу моих друзей. Все окрестности были уже уставлены автомобилями, похожими на гигантские обмылки. Мы приехали справлять день рождения Аннушки.
Вовсю трещал огонь в гигантском мангале, протяжно, как раненая птица, пела какая-то французская певица — она жила в маленькой коробочке под приборной доской. Вообще, все машины стояли с открытыми дверцами, так что француженка просто оказалась первой, кого я услышал.
Я поцеловался с именинницей, вручил ей коробку, похожую на торт, обнялся с двумя известными людьми и одним неизвестным и уселся в уголке.
Стол уходил куда-то за горизонт. Я убедился, что и другого конца не видно.
День рождения напоминал Британскую империю — за этим столом никогда не заходило солнце.
Ко мне тут же наклонился неизвестный человек, с которым я обнимался.
— Тебе рабочие не нужны, а? — спросил он сноровисто и, не дожидаясь ответа, забормотал: — Я ведь сразу за ними на рынок подъезжаю и беру пучка два.
“Пучка два”, — повторил он несколько раз, прислушиваясь к себе и вспоминая. Я легко представил себе, как продавцы увязывают нескольких молдаван и украинцев в пучки и пакуют в “газель”, что трогается вслед за джипом покупателя.
Аннушка ходила где-то далеко, как луна по краю неба.
Она была нашей Лилей Брик, Мэрилин Монро нашего городка. Все мы побывали в ней, вернее, она благосклонно принимала нас в себе, но в каждом случае это был приход в гости, а не обустройство на новом месте жительства.
Каждый помнил ее грудь и плечи, запах кожи, капельки пота — но дальше жизнь не продолжалась. Дальше падал нож фотографического резака, что пользовали в советские времена любители квартирной проявки и печати.
Фотографии, на которых мы сидим за столами и равноправными участниками которых стали горные пики бутылок и долины салатов, — вот что осталось.
Муж-красавец тоже наличествовал — такой муж, который был положен Аннушке. Вот он, проходя мимо, хлопнул меня по плечу. Мы улыбнулись друг другу, вместе с заботой стирая с лица прошлое.
Аннушка сидела в кресле-качалке рядом с крыльцом. Муж подошел к ней и укрыл ее ноги пледом. Солнце приобрело красный вечерний оттенок и стало слепить мне глаза.
Именинница раскачивалась, глядя на пирующих.
И тут я понял, что все гости были повязаны друг с другом одной леской, неснимаемый остаток этого прошлого обручил всех — и в странных сочетаниях, о которых я даже и не пытался догадываться. Что и моя светская соседка в черном платье была в общем кадастре — я не сомневался.
И мигни Аннушка, пошевели пальцем, свистни — стронется весь стол, полетят наземь тарелки, поползет весь гостевой люд на коленях к ее креслу. Поползет, кланяясь и бормоча, будто сирый и убогий народ, призывающий Государя на царство. А то, пуще, как та французская босота вокруг парфюмерного гения, двинется толпа к Аннушке. И рухнет наша прежняя жизнь, потому что мы все поскользнулись на ее масле.
Охнул я и облился водкой.
И, бормоча чуть слышно:
— Два пучка, два пучка… Да, — тут же налил снова.
VI
Слово о том, как можно поступить, когда решительно не знаешь, как нужно поступать.
Но чья-то безжалостная рука начала отнимать у меня стакан.
Оказалось, что я давно сплю, а Гольденмауэр трясет нас с Рудаковым, схватив обоих за запястья. Мы вывалились, крутя головами, на перрон.
— Чё это? Чё? — непонимающе бормотал Рудаков.
— Приехали, — требовательно сказал Гольденмауэр. — Дорогу показывай.
— Какая дорога? Где? — продолжал Рудаков кобениться. — Может, тебе пять футов твои показать?
Потом, правда, огляделся и недоуменно произнес:
— А где это мы? Ничего не понимаю.
— Приехали куда надо. Это ж Бубенцово.
На здании вокзала действительно было написано “Бубенцово”, но ясности это не внесло.
— А зачем нам Бубенцово? — вежливо спросил Рудаков.
— Мы ж на дачу едем.
— Может, мы куда-то и едем, да только причем тут это Бубенцово-Зажопино? Позвольте спросить? А? — Рудаков еще добавил в голос вежливости.
Мы с мосластой развели их и задумались. Никто не помнил, куда нам нужно и, собственно, даже какая нам нужна железнодорожная ветка. Спроси нас кто про ветку — мы бы не ответили. А сами мы были как железнодорожное дерево пропитаны зноем, будто шпала — креозотом или там бишофитом каким. Отступать, впрочем, не хотелось — куда там отступать.
— А пойдем, пива купим? — вдруг сказала мосластая.
Я ее тут же зауважал. Даже не могу сказать, как я ее зауважал.
Мы подошли к стеклянному магазину и запустили туда Рудакова с мосластой.
Мы с Леней закурили, и он, как бы извиняясь, сказал:
— Ты знаешь, я не стал бы наседать так — ни на тебя, ни на Рудакова, но очень хотелось барышню вывести на природу. А ведь дачи — всегда место не только романтическое, но и многое объясняющее. Мне на дачах многое про женщин открывается. Как-то я однажды был в гостях у своего приятеля. Назвал приятель мой друзей в свой загородный дом, а друзья расплодились, как тараканы, да и принялись в этом доме жить. Я даже начал бояться, что приятель мой поедет в соседний городок и позовет полицаев — помогите, дескать, бандиты дом захватили. Разбирайся потом, доказывай...