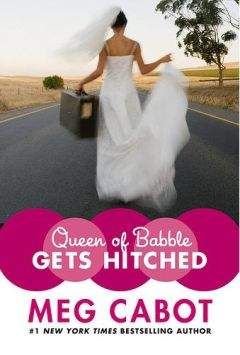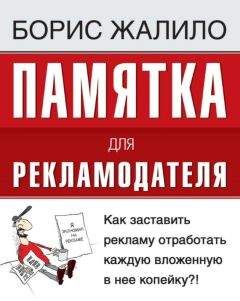— Зак!
— Что?
— Проснись.
Я перевернулся и сел. Рваный металл крыши болезненно впивался в колени. Мне стоило огромных усилий не поддаться порыву и не броситься наутек из тесного салона разбитой машины. Я подполз к Раэлю и увидел, что лицо у него распухло и все в крови, а грудная клетка разворочена. Мне пришлось отвернуться: посмотри я чуть дольше на его изувеченное тело, у меня началась бы истерика.
— О господи, Раэль, — пробормотал я.
— Ага, — с пугающим спокойствием, почти равнодушно, ответил он. — Не бойся. Я не чувствую своего тела.
Каким-то чудом мне удалось дотянуться до его пояса и нашарить дрожащими пальцами мобильник. Его свитер насквозь пропитался кровью, от Раэля волнами шел жар. «Скорая» ехала целую вечность, Раэль то приходил в себя, то терял сознание, а я, как мог, поддерживал его висевшую голову: уселся, поджав ноги, под ним и подставил плечо, как столик. Кажется, я даже молился.
— Скажи Тамаре, что я очень виноват перед нею, — попросил Раэль.
— Сам скажешь.
— Хватит, Зак, — перебил он, — не трать мое время. Просто передай, что я очень ее люблю и прошу у нее прощения. Сделаешь?
— Хочешь, чтобы я позвонил ей прямо сейчас?
— Нет. Не надо ей слышать меня таким.
— Хорошо. Я все передам.
Я был уверен, что Раэль не видит слез, которые текли по моим щекам. Он снова закашлялся и выплюнул сгусток крови, который шлепнулся с глухим стуком, словно это была не кровь, а какой-то твердый предмет.
— Зак.
— Что?
— Я чувствую, как умираю. Чувствую.
— Подожди, — попросил я. — Помощь скоро приедет.
Он покачал головой.
— Я уже умер.
— Заткнись! Держись! Не бросай меня!
— Поверь мне, — произнес он слабеющим голосом, — мне бы тоже этого хотелось.
— Через пару недель мы будем сидеть у тебя на кухне, и ты скажешь: «Какой же я был дурак!»
— Расскажи Софи про меня, — прошептал Раэль. — Когда она подрастет. Расскажи, каким я был, хорошо? Скажи, что она сделала меня самым счастливым человеком на свете.
— Ладно, — согласился я. — Ты только не уходи.
— У меня даже не было никаких дурных предчувствий, — сказал он скорее себе, чем мне. — Никогда бы не подумал.
— Раэль, пожалуйста, ради бога, потерпи. — Я уже плакал в голос. Вдалеке выла сирена. — Слышишь? — спросил я. — Они здесь. Ты только держись!
Сирена смолкла, и я представил себе, как санитары хватают свои пузатые оранжевые чемоданы и бегут по откосу к нам.
— Заки…
— Раэли…
Он в последний раз закрыл глаза и улыбнулся.
— Лучше бы мы поехали в Вегас.
Обычно, когда я уезжаю от Тамары, мне позарез нужна Хоуп. Я мчусь к ней, как наркоман за дозой метам-фетамина, чтобы удостовериться, что моя реальность ничуть не хуже безумных фантазий, которыми я тешу себя в Тамариной вселенной. Не успев завести машину, я хватаю мобильный, спешу произнести ее имя, услышать ее спокойный, уверенный голос на другом конце, такой реальный и земной, что не остается места сомнению, и снова стать собой. «Хоуп», — быстро говорю я, попадаю на автоответчик и оставляю сообщение, не сказав, где я, — лишь признаюсь, что скучаю, и прошу перезвонить. Сейчас половина седьмого, а я знаю, что Хоуп сегодня работает допоздна.
Вот так оно и бывает. Ты неторопливо едешь по боковой дороге Генри-Хадсон-паркуэй, темнеет, шоссе заполняют огни проезжающих машин (после аварии ты предпочитаешь обычные улицы скоростным магистралям). Думаешь об одной женщине, стараясь дозвониться до другой, и, несмотря на очевидный избыток женщин, чувствуешь себя одиноким и никому не нужным — и в итоге приезжаешь домой к третьей женщине, и эта женщина — твоя мать. Должно быть, я действовал на автомате, потому что, очнувшись, сразу понял, что совершил огромную ошибку. Где-то в тихом кабинете сидит один-одинешенек какой-нибудь психотерапевт и с тоской поглядывает на дверь, поджидая именно такого пациента.
Мама и Питер живут примерно в полумиле от Тамары, в доме, где я вырос и откуда с церемониями выдворили Норма после происшествия с Анной. На самом деле церемония состоялась спустя несколько дней после его ухода: мать вынесла грязные простыни с места преступления на подъездную дорожку, облила жидкостью для заправки зажигалок и подожгла — прямо под нашим баскетбольным кольцом. Подпалины на бетоне стали нашей контрольной линией и границей площадки.
Пит сгребает листву на лужайке перед домом. Завидев меня, он озаряется улыбкой и машет рукой с неестественным оживлением, которое сразу выдает его состояние.
— Зак, привет! — кричит Питер. — Что нового-интересного?
— Привет, Пит, — отвечаю я, вылезая из машины. — Как жизнь?
— Бьет ключом, и все по голове, — хихикает он. — Крутая тачка.
— Еще бы.
Он бросает грабли и бежит по чуть наклонной дорожке поздороваться со мной, его руки неловко болтаются, как у всех умственно отсталых. Мокрыми губами он чмокает меня в щеку, его щетина мягко царапает мне кожу. Питеру двадцать девять лет, он коренастый, по-своему смышленый и дружелюбный, как щенок. Но каким бы счастливым он ни казался, как бы хорошо ни справлялся с последствиями хромосомной аварии, случившейся при его сотворении, все равно его жизнь несет несомненный отпечаток трагедии. Каждый день для него — как попытка в варежках поиграть на пианино.
— Я соскучился по тебе, — признается он, и меня пронзает чувство вины. Я мысленно даю себе слово, что буду чаще звонить и непременно приеду как-нибудь в воскресенье, чтобы с ним пообщаться. Невозможно любить умственно отсталого, не испытывая чувства вины.
— Я тоже по тебе соскучился, — отвечаю я, обнимаю его за плечи, и мы шагаем по лужайке к дому. — Поэтому и приехал тебя проведать.
— Как дела у Хоуп? — спрашивает он.
— Отлично. Она передавала тебе привет.
— Ты тоже передавай ей привет.
— Непременно.
Свежий ветер холодит мне щеку, забирается под коричневый замшевый пиджак, под резиновой подошвой ботинок хрустят разноцветные сухие листья, и на мгновение я верю в то, что все будет хорошо, что возможности мои безграничны. Осенью со мной такое бывает.
Мама на кухне, моет тарелки в раковине. У нее отличная посудомоечная машина, но, если бы она ею пользовалась, жертва, приносимая ради Питера, была бы неполной, так что об этом и речи быть не может. Одной заботы о нем маме всегда было недостаточно. За эти годы она развила и отточила комплекс мученицы. Ей мало просто делать свою работу: нужно непременно жертвовать собой. Я был слишком мал тогда и не помню, появилась ли у нее эта черта до или после окончательного отцова грехопадения, стала ли она причиной или следствием их супружеских неурядиц, но именно из-за нее после развода мама осталась одна. Наверное, это своего рода защитный механизм или дурно понятая дзенская покорность судьбе — не знаю. Я последний, кто может судить о чужих тараканах. Скажем так: Лила Кинг — не самый жизнерадостный человек в мире. Мой брат Мэтт написал о ней песню «Святая мать».
Стройная, в джинсах, с крашеными светлыми волосами, со спины мать кажется гораздо моложе. Но когда она оборачивается ко мне с привычным выражением усталой обреченности на лице, я замечаю морщины под глазами, расплывшийся подбородок и поджатые губы. Мне хочется обнять ее, рассмешить, чтобы она улыбнулась, и одновременно усилием воли я подавляю порыв сбежать с этой мрачной кухни, оклеенной обоями цвета авокадо, которые я помню с детства, и никогда не возвращаться. Встречи с мамой так на меня действуют.
— Зак, — произносит она.
— Привет, мам.
Она поворачивается спиной к раковине и театрально разводит руки в резиновых перчатках, а я наклоняюсь поцеловать ее в щеку.
— Что ты здесь делаешь?
— Так, был по соседству, — отвечаю я.
Мама впивается в меня взглядом.
— Что случилось?
— Ничего.
— Это не ответ. В чем дело?
Тут надо пояснить, что Лила вовсе не образец материнской интуиции. Ее вопрос не значит, что она моментально заподозрила, как какая-нибудь клуша, будто с ее старшим и (по крайней мере, на первый взгляд) наименее невезучим сыном что-то стряслось. Ее средний сын родился умственно отсталым из-за случайного сбоя в хромосомах, а муж трахал свою секретаршу прямо на супружеском ложе, так что мать живет с непоколебимым убеждением, что ничего хорошего от Бога ей ждать не приходится. Обычные люди здороваются, а Лила Кинг вместо «привет» говорит «Что случилось?»
— Все в порядке, мам. Так, проезжал мимо.
— Это из-за Хоуп?
— Что из-за Хоуп?
— Ты же не боишься, правда? Потому что это вполне естественно.
— Мам!
— Я просто спросила.
Она хмурится и пожимает плечами. У эскимосов сотни названий снега; моя мать знает тысячи способов нахмуриться и пожать плечами. Она может уроки давать.