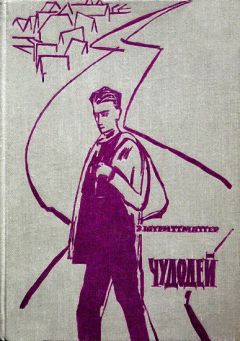Только Герберт долго не решался, что выбрать. На стекольном заводе слишком жарко, у крестьян нужно возиться в навозе. Однажды он встретил страхового агента и стакнулся с ним. Герберт заходил в крестьянские дворы так, чтобы оказаться поближе к собачьей будке. Пес выскакивал и вцеплялся в его старые штаны. Герберт требовал возмещения убытков. Крестьяне колебались. Герберт позволял себя упросить. Договаривались на том, что ему зашьют штаны и дадут фунт масла. А взамен он обещал не подавать жалобу в суд. Дня через два в тот же двор заходил страховой агент, и крестьянин охотно соглашался застраховаться от возможных судебных взысканий. Герберт получал от агента небольшую долю его премии.
Когда все крестьяне в округе были застрахованы, Герберт завербовался в рейхсвер. Парень он был статный, настоящего фельдфебельского роста, и его охотно зачислили. Ему предстояло двенадцать годков солдатчины. Густав не мог нарадоваться на сына. В мечтах он уже видел, как тот, отслужив, возвращается в родную деревню готовеньким жандармом. И тогда у Бюднеров будет свой жандарм. Возвращаясь со службы домой, он будет вешать свой длинный палаш над кроватью Густава.
Так в домике Бюднеров остался только Станислаус. Ему предстояла конфирмация. Из графского садоводства принесли большую корзину цветов. Густав глядел на нее с восторгом. Какой нежданный дар!
— Этакая честь нам оказана! Не всякий такого почета достоин. — Он шарил в цветах и листьях, разыскивая приветствие от графини. Напрасно! Графиня, видимо, забыла написать письмецо.
По обычаю, на конфирмацию пригласили крестных отпраздновать окончание их опеки над крестником. Тетка Шульте принесла в подарок дешевый отрез на костюм. Он когда-то предназначался для ее батрака, но тот ушел, не получив подарка: хозяйка была слишком требовательна и даже ночью не давала ему покоя.
— Ох, и народ теперь пошел, — вздыхала она, с вожделением поглядывая на Густава. Потом уставилась на Станислауса: — Еще молод немного, но парень в теле. Хотите, пусть для начала поработает у меня?
— Нет, он не с тебя начнет, — Густав подергал свою бородку.
Жена учителя очень состарилась. Она так и не примирилась с тем, что ей приходится ютиться в верхнем этаже школьного здания, как существу низшего порядка, как простой квартирантке. Она и муж теперь едва решались пройти в уборную на задворках: каждую пядь земли во дворе старший учитель чем-нибудь да засеял.
Фрау Клюглер принесла Станислаусу в подарок две книги из библиотеки мужа. «Психология лиц, страдающих недержанием мочи» в двух томах и «Преподавание религии в трехклассной народной школе на основе наилучших отрывков из Ветхого завета». И к этому еще галстук, завернутый в папиросную бумагу. Господин Клюглер не носил его: этот галстук был слишком красным для него. Лавочник вовсе не хотел отпускать жену на конфирмацию.
— Опять одни расходы!
Но его ласковая супруга все же пришла; да он и не стал упираться, когда увидел, как умно она подобрала подарки: коробка целлулоидных воротничков, два черных галстука бабочкой, две пары напульсников из эрзаца шерсти военных лет, пачка старых тетрадей в линейку и изогнутая курительная трубка с фаянсовой головкой.
Жена управляющего не поскупилась. Ведь когда-то ее муж не слишком нежно обошелся со Станислаусом. Она принесла позолоченную цепочку для часов.
— Часы на конфирмацию дарят всем, — пыхтела она, — но кто догадается подарить цепочку для часов?
У Станислауса не было часов. Он привязал к цепочке гайку. Так он мог шествовать, расстегнув свою конфирмационную куртку. И каждый встречный видел цепочку от часов, поблескивающую на его узеньком жилете.
Праздник конфирмации был невеселым. К ежевичной наливке, приготовленной без сахара, никто не прикоснулся. Времена были трудные, и все четыре крестные матери жаловались на свои тяготы. Лавочницу мучил доллар. Над прилавком висела особая таблица — на одной стороне в ней отмечался курс доллара, а на другой — цены на товары в марках. Лавка открывалась только после того, как почтальон приносил свежие газеты; в них сообщалось о курсе доллара. Никто в деревне никогда не видел ни одного доллара. Станислаус представлял его в виде маленького солнца, которое поднимается все выше и выше.
— Доллар ползет вверх, и нам приходится вытряхивать душу из тела. Пока приедешь в город за товарами, твои деньги уже стоят ровно вполовину меньше, — жаловалась лавочница.
Жена управляющего поглощала пироги.
— Нужно менять. Мы вымениваем на зерно и картошку все, что нам нужно.
— Да, хорошо тому, у кого такой амбар, как у вас. — Жена учителя произнесла это со злостью. Жена управляющего даже поперхнулась.
— Эх, все было бы не так страшно, будь эти скоты батраки надежнее! — простонала Шульте. — Только успеешь привыкнуть к одному, а он уже, глядишь, и лыжи навострил. Им выгоднее быть безработными: безработным-то платят пособие!
— Вот уж чего не могу сказать о себе! — робко вставил Густав.
Станислаусу не было дела до этого общества. Скучая, бродил он по двору и по огороду. На стоячем гуттаперчевом воротничке виднелись черные отпечатки пальцев. Он выпустил из хлева молодых козлят и некоторое время забавлялся их неуклюжими прыжками. В курятнике он заметил наседку, которая устраивалась в гнезде. Она яростно клюнула его в руку. Станислаус выхватил ее, кудахчущую, из гнезда и завертел в воздухе:
— Я тебя отучу от таких штук!
Внезапное верчение напугало наседку. А потом Станислаус положил ее на спину и постучал карающим перстом по клюву:
— Молчать! Ни звука больше! Понятно?
Наседка так я осталась лежать навзничь. Она опустила лапки и казалась мертвой, только глаза, обращенные к небу, помаргивали. Станислаус глядел на ее мигающие глаза. Наседка не шевелилась. Тогда Станислаус испугался. Что же это он наделал: с день своей конфирмации погубил курицу! Теперь ему достанется. Нужно понадежней скрыть следы преступления. Пусть папаша Густав потом думает, что ее унес ястреб. Станислаус бросился за лопатой, потом хотел схватить курицу, но она уже вскочила на лапы и убежала. Мальчик очень удивился.
Не долго думая, он снова поймал ту же курицу, повертел в воздухе и уложил на спину. И она опять застыла. На этот раз Станислаус захлопал в ладоши и крикнул: «Кыш!» Курица мигом вскочила и удрала. Тогда Станислаус поймал другую курицу, и она так же лежала, пока он этого хотел. Вот это отличное развлечение в день конфирмации! Одну за другой он переловил всех кур и уложил их неподвижными, замершими.
Восемь кур уже лежали перед курятником, а когда Станислаус начал вертеть петуха, из дому вышел папаша Густав. Сигара, которую он закурил в честь праздника, вывалилась у него изо рта.
— Ой, люди, парень взбесился!
Женщины выскочили во двор. Они уставились на мертвых кур. Теперь уже и петух лежал рядом с ними, с отвисшими крыльями, словно убитый.
— Давайте веревку, — кричал Густав, — помогите связать этого бешеного!
Лена побежала за веревкой. Станислаус усмехался. Густав боялся взглянуть на этого чертова выродка. Еще бросится на него прежде, чем найдут веревку.
Станислаус захлопал в ладоши и крикнул: «Кыш-ш!» Куры вскочили и, кудахча, разбежались по двору. А петух, оскорбленный в своей гордости, закукарекал так оглушительно, что разнеслось эхо далеко-далеко.
Тетка Шульте трижды сплюнула.
— Тьфу, тьфу, тьфу! Он одержим бесом. И каков же он должен быть в постели!
Узкие губы учительши посинели. Произошло нечто совершенно необычайное. Здесь действовали сверхчеловеческие силы!
Так они и стояли друг против друга — с одной стороны Станислаус, с другой — все общество, праздновавшее его конфирмацию. Папаша Густав испуганно жался к стене. Оказывается, парню ничего не стоит схватить тебя вот этак — и будешь лежать трупом.
— У него дурной глаз. Он будет деньги лопатой загребать, — закричала тетка Шульте.
Станислаус убежал в лес. Он вовсе не хотел иметь дурной глаз. Неужто и от него будут прятать всех детей? В Шлейфмюлле жила старуха, про которую говорили, что у нее дурной глаз. Когда она ковыляла по деревне, опираясь на палку и моргая, крестьяне прятали детей и скот. Говорили, что у старухи такой вредный глаз, что стоит ей только посмотреть на корову, и та начнет доиться не молоком, а кровью.
Станислаус плакал, всхлипывая так, что на его жилетке раскачивалась цепочка для часов. Может, он во время конфирмации что-нибудь не так сделал? Может быть, слишком жадно проглотил облатку и вино, которыми его причащал пастор?
Он сидел и все думал и думал, пока не стемнело. Душистый ночной воздух успокоил его печаль. Пестрая бабочка летала вокруг.
— Чего плачешь, молодой Бюднер?
— Говорят, что у меня дурной глаз.