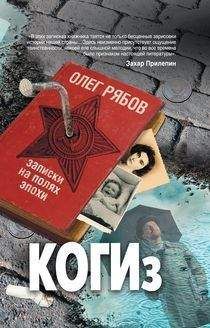– Ну, конечно, знаю! Вы же с Григорьевым ездили к Юркову да к Смирнову в Горький. Тогда же и с Серафимом встречались.
– Ах, с Серафимом Ильичом! Я же не знал, что он – Богданов. Тогда прошу прощения! Но все равно: в типографии Кайсарова книг не печатали. А самое главное, конечно, даже не это. Главное заключается в том, что такой книги просто не было! Вы что-то путаете с названием! Может быть, вы, молодой человек, привезете эту книгу, которую сейчас описали? Я живу тут рядом – поднялись по Староконюшенному до канадского посольства – и мой дом. Надумаете – Борис Израилевич вам подскажет. Вместе мы с вами и разобрались бы: что это за чудная книжка такая! Об атамане Платове и его славных донских казаках не один десяток книг написан. Так вот, если книжки, о которой вы тут нам рассказывали, не окажется в моей библиотеке, то берете в обмен на выбор все, что вам понравится. А что у меня за библиотека, спросите потом у Бориса Израилевича.
Уже через полчаса мы сидели с Белкиным за столиком в ресторане «Арбат» и со второго этажа удобно оборудованной галереи лицезрели цирковое представление, разыгрываемое прямо под нами внизу. В тот день было торжественное открытие ресторана и были заявлены слоны! Нет – не в меню! В программе выступления цирка, который был приглашен ради такого случая. Так вот – слонов не было. Были жонглеры, были акробаты и были наши мечты о том, как мы накажем высокомерного Николая Ивановича.
Через неделю Козаков встречал меня на пороге своей квартиры в довольно неожиданном домашнем наряде: пижамные брюки и легкая бархатная курточка, накинутая на голое тело и стянутая тонким пояском. Как-то уж совсем по-барски, нарочито не суетливо, повел он меня через анфиладу комнат в кабинет мимо своих сокровищ.
Прихожая, гостиная, кабинет и собственно библиотека – здесь все служило книге, и было их тут больше десятка тысяч томов – я уже научился оценивать такие вещи на глазок. Причем по мере продвижения от входных дверей к кабинету ценность книг заметно повышалась. В прихожей, в застекленных стеллажах, стоял всякий ширпотреб начала века: «вольфовский» семнадцатитомник Мережковского, «сиринский» двадцатитомник Федора Сологуба (первые два тома – издательства «Шиповник»), семь томов Брюсова, восьмитомник Ремизова и прочие, до оскомины знакомые мне по корешкам, собрания сочинений. В гостиной, в специальных шкафах, чередующихся с небольшими ампирными горками, стояла русская классика в любительских переплетах девятнадцатого века, дежурные многотомники и истории полков. А вот в кабинете половина дверок в шкафах были уже глухие, чтобы скрыть от любопытного глаза заповедные ценности. Все это я сумел прострелить взглядом, пока мы шли до кабинета.
Но покровительственное высокомерие, этакое – «через губу», очень быстро сменилось на совершенно беззащитное детское удивление, когда Николай Иванович взял в руки мою книжечку. Он ковырял ногтем замшу, которой я подклеил вырванный кусочек кожи на корешке, считал странички, смотрел их на просвет, выискивая филиграни. Потом с полчаса разглядывал какие-то каталоги, приглашая меня быть соучастником своего изумления.
– Вот, смотри, книга: «Граф Платов и подвиги донских воинов», и тоже напечатана в 1813 году в Москве, – он протягивал мне чем-то похожую на мою книжку, в таком же цельнокожаном переплете, только чуть потоньше.
Внезапно успокоившись, Николай Иванович уселся за письменный стол, жестом предложил мне глубокое и совсем не рабочее кресло, положил мой шедевр между нами и, немножко смущаясь, спросил:
– Хотите, я вам заплачу за эту книжку двадцать пять рублей? – И, не дожидаясь моей реакции, поправился: – Нет – пятьдесят!
– Николай Иванович, я хочу у вас взять книжки.
– Какие книжки?
– Ну как – какие? Вы же сами говорили!
– Что я говорил?
– Ну, что если у вас такой книги не окажется, то вы разрешите мне взять у вас что-нибудь на память.
– Что-то я не помню такого.
– Так что же, мне Бориса Израилевича в свидетели призывать, что ли?
– Веселый вы гость, Геннадий Иванович! А что за книжки-то вы хотели у меня взять?
– Да мне книжки-то, может, и не нужны, а вот на память о нашем знакомстве и обмене хотелось бы что-нибудь оставить. Давайте – я заберу у вас Мережковского вольфовского?
– Так это же очень дорого! Вы сколько хотите за свое чудо?
– А – нисколько! Я не думал ее продавать. Это вы ее хотите! Так вот: если что, то я готов.
Козаков как-то тихо задумался на минуту и вдруг согласился:
– Ну ладно, Геннадий Иванович, вот вам пятьдесят рублей и забирайте Мережковского семнадцатитомник, того, что в коридоре. Надеюсь – будете позванивать, когда что вкусненькое попадется. А у вас что – ни портфеля, ни сумки не было с собой? Придется вам одолжить, но с возвратом.
С этого момента я себя зауважал, стал считать более значительным, что ли. Да и Борис Израилевич, к которому я продолжал ездить раз, а то и два раза в месяц, стал ко мне более приветлив. По крайней мере, чашку чаю он мне предлагал почти всегда, а я не отказывался.
Только однажды все же случилось в наших прекрасных взаимоотношениях досадное недоразумение, бес меня попутал.
Совершенно случайным образом оказалась у меня в руках довольно большая книжная редкость: «Риторика» Ломоносова 1748 года. Привезли мне ее в подарок из Германии, подарили как-то неуклюже – сунули в карман, да и вспоминать человека, подарившего ее, было неприятно, даже как-то болезненно. А поэтому, недолго думая, во время своего очередного вояжа в Москву я вынул эту книгу вместе с остальными и положил на стол перед Борисом Израилевичем. Он внимательно осмотрел мой «предмет», пересчитал все странички и предложил мне какую-то очень приличную сумму, вроде – двести рублей.
То, что произошло через месяц, мне грустно вспоминать до сих пор. Борис Израилевич встречал меня, приближающегося к его подсобке через весь торговый зал, не улыбаясь и очень задумчиво, и поздоровался не приветливо, а скорее ехидно. До меня все это не сразу дошло, может быть, даже и не заметил бы, если бы не вопрос старого товароведа:
– А ты ведь знал, что «Риторика» эта не 48-го, а 1776 года? – спросил он меня. Мне кажется, он со всеми был на «вы», но изредка плавно и незаметно переходил на «ты», и это не по-деревенски, а как-то по-домашнему, нежно, по-еврейски.
– Знал! – ответил я и не понял – зачем соврал. Точнее, я даже не понял, о чем спросил меня Борис Израилевич. До меня не очень дошел его вопрос – я был с дороги, запыхавшийся, с тяжеленным чемоданом в руках, но было уже поздно. Настолько доверительно и утвердительно был задан этот вопрос, что я просто невольно согласился.
– Надо было сказать.
– Что сказать?
– Сказать, что филиграни на бумаге «Риторики» поздние.
– Что значит поздние?
– Ну, водяные знаки-то на бумаге – «1776». Это значит «Риторика» – не прижизненная!
– Ну как же – не прижизненная, а титульный лист? Он что – фальшивый? Или вклеен из другой книжки?
– Нет! Ты, значит, ничего не понял. Проходи сюда, ко мне – я тебе чаю горячего налью.
Я действительно в тот момент не понимал – о чем идет речь, только чувствовал, что сделал что-то очень плохое и что старый товаровед мне не верит. Я его вроде как обидел. И хотя обида уже прошла, все равно – в чем-то обманул.
Я приткнулся с чашкой чая на уголок стола, заваленного принятыми за день книгами, в тесной товароведческой кабинке и приготовился слушать.
– Ломоносов был не только действительно великим ученым, единственным русским, с которым считались в Европе, но и человеком, которому прощалось многое: скандалы, драки, пьяные дебоши. Он был личностью и загадочной, и легендарной, и анекдотичной. Он не имел преград при исполнении своих желаний ни жизненных, ни научных, и поэтому успевал доводить до конца очень многие свои проекты. Мы ему обязаны русским стеклом, русским фарфором, русской историей, русской словесностью и электричеством, и химией, и всем, всем прочим… Родиться в деревне Болото и создать первый русский университет – это много! И вот такое благоволение к нему судьбы и властей, не только наших, но и европейских, а также внешний вид нашего героя и некоторые хронологические совпадения позволили сплетникам говорить об очень высоком, хотя и не очень благородном его происхождении: имя Петра I упоминается часто в легендах о Ломоносове. И тогда понятно особое отношение к Ломоносову со стороны Елизаветы Петровны. Хотя все это только сплетни. И у него были проблемы, и на него были наветы, и его книги подвергались цензурным запретам, если уж вернуться к нашей теме. Я уже лет пятьдесят мечтаю увидеть «Санкт-Петербургские ведомости» за 1741 год с двумя одами, посвященными императору Ивану Антоновичу. Только после его убийства в империи было уничтожено по возможности все, что связано с этим именем.