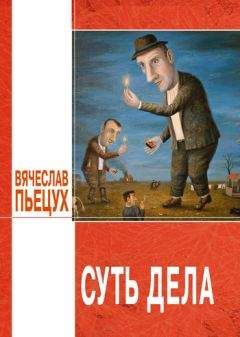В доме у Кукушанских, разумеется, ералаш: посуда не мыта, пол не метен, в красном углу свалено нестираное белье, дворняжка по кличке Кукла спит на хозяйской постели, которая не прибирается никогда, а в воздухе шныряет такое количество мух, что это даже невероятно; мухи тут господствуют оттого, что Кукушанский поставил хлев непосредственно у крыльца, чтобы можно было прямо с порога задавать борову положенный рацион.
Когда ни зайдешь к этим оболтусам, такая открывается жанровая картина: хозяйка сидит за столом и дремлет, положив голову Кукушанскому на плечо, а сам Кукушанский в одной руке держит книгу, а другой отгоняет мух; или хозяйка сидит за столом, уронив голову между чашек, а Кукушанский лежит на диване совместно с Куклой и в одной руке держит книгу, а другой отгоняет мух.
— Миш, а Миш, — скажешь ему, бывало, — какой же у вас бардак!
Он только посмотрит тупо-вопросительно, как спросонья, и в лучшем случае ответит:
— Иди ты к черту…
Но если застать его за мечтой, то с ним бывает можно как-то поговорить.
— О чем мечтаешь? — спросишь его, бывало.
— О летающем диване.
— О чем, о чем?!
— О летающем диване.
— Ну, ты даешь!..
Кукушанский приподнимается на локтях и пускается в объяснения:
— Вот ты думаешь, что это беспочвенная фантазия, а на самом деле это реальный лежательно-летательный аппарат. Представляешь: помещаем вовнутрь дивана — где у меня сейчас свалены старые веники — мощный компрессор, в дне проделываем отверстия, вставляем в них сопла, соединяем их с компрессором и, как говорится, — полный вперед! Только вот придется расширить дверной проем, а то диван в него не пройдет.
— Ну, а дальше что?
— Дальше только кнопочки нажимаешь. Нажал одну кнопочку: компрессор начинает нагнетать воздух и с огромной силой выталкивает его через сопла — ну и поползли себе потихоньку к двери, а там на крылечко, а там на двор. Нажали другую кнопочку: компрессор работает уже с неистовой силой и поднимает диван на нужную высоту. После этого, так и сяк меняя угол расположения сопел относительно горизонта, можно лететь в любом полюбившемся направлении.
— Да куда тебе летать-то, скажи на милость?!
— Да хоть куда! На ферму можно летать, в сельпо — вплоть до районной библиотеки.
— А источник электроэнергии?! Ты представляешь себе, какого веса нужен аккумулятор, чтобы он обеспечивал твоему компрессору соответствующее питание?
— В этом смысле я рассчитываю на солнечные батареи, как на космическом корабле, только расположенные наподобие балдахина. И питание они обеспечивают, и сверху не капает, если что.
— Нет, — говорю, — солнечные батареи, это громоздко будет. Разве что тут на сверхпроводимость приходится уповать.
— Одним словом, летающий диван, согласись, вполне решаемая задача. Это тебе не сорок центнер ов с га. Особенно меня окрыляет самоходная печь Емели, который скорее всего был реальный деревенский изобретатель, выдающийся конструктор своего времени, и поэтому народ запечатлел в своих преданиях его технические новинки.
Эта параллель всегда меня настораживает, но тут я спрашиваю себя: а чему я, собственно, удивляюсь? Действительно, идея летающего дивана — это еще не самая вызывающая мечта; вот я знаю одного директора облторга, который четыре года подряд мечтает набить морду султану Салеху Саиду ибн Фаттаху за то, что султан спровоцировал падение цен на сырую нефть.
Юлий Капитонов с детства писал трактаты. Прочие мальчики и девочки его возраста занимались разными бессмысленными делами или ничем вовсе не занимались, а Юлий Капитонов как столкнется с чем-нибудь примечательным, так сейчас сочинит трактат. У него были трактаты о бабочке-адмирале, о самоуправлении комсомола, о почте, о любви, об этике поведения школьников на переменах — ну и так далее в этом роде, всего не имеет смысла перечислять. Разумеется, такая его наклонность даром никак не могла пройти: с отроческих лет Капитонов был человеком дерганым и, как говорится, незащищенным. На семнадцатом году жизни он пытался покончить самоубийством, застав свою мать с каким-то неведомым мужиком.
В 1965 году, когда у государственного руля уже стоял туполикий Леонид Брежнев, юный мыслитель поступил на философский таки факультет Московского университета, но в бытность студентом-философом себя особо не показал. Правда, он написал с десяток трактатов о разных разностях, но они не отличались значительной глубиной. Вообще за годы учебы в Московском университете он сделал только два фундаментальных приобретения: он приобрел настоящего друга по фамилии Карабасов и одну таинственную болезнь — в тот самый момент, как он отходил ко сну, ему неизменно являлось привидение деда по женской линии и начинало его душить.
Только из-за того, что, так сказать, государственная философия, которой Юлия Капитонова пичкали в течение пяти лет, прямого отношения к философии не имела, он вышел из университета закоренелым идеалистом. Хотя в капитоновском идеализме было много от советского образа мышления, например, он признавал все три диалектических закона и очистительное значение революций, но тем не менее своего места в жизни, соответствующего диплому и устремлениям, он так до смерти и не нашел. Он долго мыкал горе по странным организациям, несколько лет перебивался немецкими переводами и наконец устроился в котельной истопником. Поскольку на работу ему нужно было являться через двое суток на третьи, весь свой досуг он уже мог посвятить трактатам. Впрочем, и на работе он находил время для философии: накидает в топку угля, проверит температуру и давление по приборам — и тут же за карандаш. Друг Карабасов на него удивлялся; бывало, зайдет в котельную проведать своего однокашника, застанет его за вечной зеленой тетрадкой, исписанной вкривь и вкось, и сразу принимается удивляться.
— Совсем ты оторвался от жизни, как я погляжу, — бывало, говорил Карабасов, сторожко присаживаясь на ящик изпод вина. — Ну чего ты себя мучаешь, малохольный ты человек?! Ну кому сейчас нужны твои грезы, кроме специалистов из КГБ? Вот бери пример с меня: никакой философии, помимо поведенческой, бытовой, и поэтому налицо полное процветание!..
— Кто любит попа, а кто попову дочку, — хмуро отвечал ему Капитонов.
1980 году он закончил свою коренную работу, которую назвал «Новой монадологией», отнес в издательство «Мысль» и получил резкую отповедь сразу от нескольких рецензентов. В результате редактор вернул ему рукопись и сказал:
— Вы, честное слово, прямо как на луне живете! В мире свирепствует идеологическая борьба, а вы тут лейбницевщину разводите, подсовываете нам учение о монадах!.. Да уже за одно то, что вы везде приплетаете бога как источник вторичной нравственности, вас на порог допускать нельзя! Скажите спасибо, что вы живете в такое время, а то бы ваш опус быстренько оценили как вылазку, и будьте здоровы — прямым ходом на Колыму!
Делать было нечего: Капитонов забрал свою рукопись и с месяц пропьянствовал то в компании с Карабасовым, то один. О философии они больше не говорили; они преимущественно варьировали ту тему, что Россия — богооставленная страна.
— Эмигрирую я, к чертовой матери! — говорил Капитонов. — Надоело мне до смерти это царство негодяев и дураков!
— И глупо сделаешь, — предупреждал его Карабасов. — Мыслить у нас, конечно, не рекомендуется, но зато у нас интересно жить. Вот был я в семьдесят четвертом году в цивилизованной Югославии — ну все у них разрешается, хоть на голове ходи, но при этом невыразимая скукота!..
И вот как-то под вечер в котельную к Капитонову заявляется вроде бы иностранец, то бишь и физиономия у него почему-то была среднерусская, и выговор среднерусский, но одет он был как форменный иностранец. Заявляется эта личность и просит разрешения познакомиться с «Новой монадологией» на предмет ее издания за границей. Капитонов поинтересовался из праздного любопытства, дескать, каким же образом про нее пронюхала Западная Европа, на что иностранец ему отвечает: приятные новости распространяются со скоростью электричества. Капитонов немного покобенился перед гостем, втайне борясь со своим рудиментарным гражданским чувством, а потом вручил ему рукопись и даже заставил выпить стакан портвейна.
Что-то через неделю в котельной опять появляется давешний посетитель; он вернул Капитонову рукопись и сказал:
— Эта философия на Западе не пойдет. Помилуйте, у вас там бог упоминается как источник вторичной нравственности, а первичная нравственность у вас получается субстанция, абсолют. Нет, христианский мир этого не поймет.
Капитонов, конечно, опять запьянствовал; Карабасов, как правило, деливший с ним горькую чашу, постоянно его подначивал с победным выражением на лице: