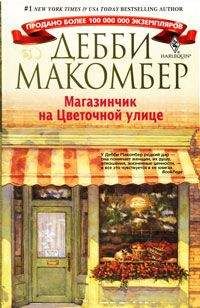И глядел неотрывно, и думал: вот она, здесь, неподвижно сидящая на полу – мать сырая земля. Дымный клубень качнулся ко мне и шепнул: после службы не уходи, перекусим, там будут кормить, – и указал пальцем в пол.
Спустившись в подполье, все рассаживались на ковровой дорожке вдоль стен. Кормчий с тачкой делал объезд по периметру, насыпая в невесомые тарелки из спрессованных листьев масленно-солнечные горки риса в родинках изюма.
За ним шел второй, разливавший чай с молоком, по сравненью с которым сахар – горькая редька.
Наклонившись к садху, я спросил – можно ли купить кассету с этой музыкой. Он кивнул и повел нас коленчатыми коридорами, потолки которых опускались все ниже. Наконец, перед крохотной дверью мы увидели сгорбленную в три погибели очередь. Садху что-то шепнул им на хинди и указал на нас, они расступились.
Посреди маленького сводчатого зала стояло непомерно высокое ложе, заполняя собой почти все пространство. В настенных канделябрах горели свечи. Садху подталкивал меня вперед, к ложу. Я тщетно вглядывался – куда, к кому? Подойдя вплотную, я увидел это сухонькое, наполовину спеленатое тельце, бессильно припавшее к косматой приподнятой голове с пронзительно светящимися глазами и узеньким ртом.
Я оглянулся на Ксению, она отступила на шаг. Он ждал, наблюдая за мной с веселым, как мне показалось, прищуром – и глаз, и улыбки.
Наверно, мне следовало приложиться – к ладони? К ноге? Я ткнулся в ребро нисподавшего покрывала. Толмач, за моею спиною стоявший, переводил. Старец слушал (не думаю – слышал), кивал.
Вышли. Вернулись в ашрам. Садху подвел нас к шкафу с инструментами и указал нам на место – чуть левее от Кришны, где мы только что получили благословенье играть. Выйдя из ашрама, мы пошли вдоль реки вниз по ее правому берегу. Глядя с левого, он казался непроходимым: скальные обрывы с вросшими в них хвойными альпинистами, отшатнувшимися от стены и за спину глядящими в мутный поток. И в зеленых теснинах, взбегающих между скал, проглядывали на весу ютящиеся ашрамы. Там, где тропа окуналась в реку, мы брели по воде, уступая дорогу шатким понурым осликам, приваленным парой мешков с песком или камнями в корзинах с обоих боков. За вторым поворотом мы наткнулись на купающийся табунок старшеклассников, сбежавших, как оказалось, на выходные дни из Дели, а здесь – от учителя.
Терракотовый вожачок, по-крабьи переметываясь по бурунам над притопленными камнями, подскочил к нам и, познакомившись, то есть назвав свое имя, махнул рукою, зовя всю ватагу. Было их около тридцати. Каждый хотел снимок на пямять. Слева стоял я, справа – по очереди – один из них. Ксения – посередине. Первый был робок, оставляя сквозящую щель между собою и Ксенией. Второй приобнял ее, правда, несмелой рукой, поверх моей. Пятый, с распоясанною улыбкой, небрежно обвил ее шею и ладонью уже прикрывал ее грудь.
Сбившись в кучу, они обступали, топчась возбужденно, таращась и склабясь. И еще долго неутоленно махали нам вслед, и – сыпанули в воду. Пройдя с полкилометра, мы приметили небольшой грот у воды и присели там – чуть поостыть от солнцепека и окунуться.
Поглядывая на Ксению, я с досадой ловил себя на том, что мне все трудней удается удерживать незатуманенным этот чудотворный крестик, этот нежный прицельчик плюсов. И все чаще – эти тоненькие, почти бескровные, минусы, как порезы бритвой.
Минус ведро с бельишком, замоченным рядом с ее ведром, ее бельишком, которое она полощет, перешагивая через мое – туда и, неся на просушку, обратно.
Минус ее – повсеместно – притяжательные местоимения. Хотя эта, так коробившая меня, черта присуща всему западному сознанию, укоренясь в языке. I go to my bed. Ich habe mein Fruschtuk gehabt. Русская речь это эмансипированное муе старается опустить, где только может. Не в лапе свобода личности, не в "я" человека его достоинство.
Минус эта ее манера ходить – оттирая собою пространство со всех сторон – от того же стяжательного местоимения, не оставляя места ни человеку рядом, ни воздуху, понуждая весь космос вокруг себя менять ногу.
Минус этот картуз (лицо ее порой казалось каким-то странным напряженно-застывшим сплывом Пьеро и Коломбины, – не полным, и, видимо, отсюда ощущение напряжения, а с этим тайным незримым зазором меж ними двумя – за миг до – и замерли, чуть под углом друг к другу).
Минус этот картуз, который я, не сдержавшись, просил ее не надевать, и теперь она вяжет эту косынку с узлом на затылке, смахивая на рязанскую доярочку, киношную, неубедительную. Уж лучше картуз. Но пусть думает, что мне нравится, потерпим. Конечно, все это чепуха. И не уши Каренина (мочка ее правого уха надорвана с юности – это когда на темной греческой улочке с нее срывали сережки; с тех пор не носит и прорешку не зашивала), не уши, а Углич – углич того света, который мы носим в наших с нею зрачках, глядя друг другу в глаза, не глядя.
Она полулежит на плоском наклонном камне, упираясь пятками в песок и запрокинув голову, с распластанными по сторонам руками. Ее мокрое после купанья сари с треугольной облипочкой и выше – к учащенно дышащему животу – напоминает лягушачью кожу со стороны брюшка; и не только цвет, этот влажный крап с мелеющими разводами, но и то упругое напряженье, когда она, запрокинув голову и распрямляя колени, делает свой рывок к небу, а ты удерживаешь ее за кисти ног.
Это, видимо, пекло так действует. Я сижу на камне, напротив нее, примеривая ворсистую лодочку кокосовой корки на детородный – как козырек на нос.
Могла бы и голой, как я, поплавать, ведь никого в округе. Лежит, в солнцезащитных, черных. Пятки – в слюдяном песке.
– А ты не помнишь, – спрашиваю, – о каком звуке говорил Амир, упрекая русский в его недоразвитости?
– По-английски, пожалуйста, – произносит она, не открывая глаз. Я и не заметил, как – впервые за эти месяцы – перешел на родной, русский.
– Ладно, так о какой букве, то есть о какой фонеме он говорил? Той, что в санскрите поет во весь голос, и еще теплится в романо-германских, как отголосок, а в русском отсутствует, а это значит – заблокирована целая область сознания, которое открывается, стимулируясь через горловую чакру, которая…
– Открытое "о", насколько я помню, – говорит она, отворачивая голову.
– Разве? А кровь-любовь? Молоко-олово?
– Пойдем, – говорит, – припекает.
Тропа вильнула вверх к распадку. Мы решили рискнуть без нее и уже огибали мысок, прижимаясь к скале над порогами. Цветущие моховички в расселинах, незримые родники со стекавшей из чаши в чашу укромной водой. Змеи. Ими дышали сгрудившиеся губчатые цветы, перепутанные тесемки стеблей, все эти парные расшнурованные щели. Мы двигались как бы небрежно, не подавая друг другу вида, но краем глаза с опереженьем отцеживали каждый шаг. Миновало.
За скалой – лагуна, и по ту ее сторону – отвесное мыло мыса. От реки
– ступени. Сновидческие деревья, переплетенные лианами, руины, тень, тишь, кажется, со времен Махабхараты.
Поднимаемся по смутным зигзагам лестниц, занесенных ветошью и листвой. Ксения идет чуть позади меня, разглядывая на ладони это ситцевое близорукое личико крохотного цветка, подобранного ею на змеиной скале.
Я поворачиваю за угол; передо мной – раскинутые руки и оскаленная к небу голова идущего на меня бандера. Я замер. И он, сделав шаг, остановился, опуская голову, оседая с затравленным взглядом последнего из оставшихся в живых людей.
Мы стояли на расстоянии обоюдно протянутой руки. Я оглянулся на
Ксению – та же дистанция. Вернулся взглядом – засаленная суконная муфточка губ ползла, расширяясь, подрагивая, оголяяя клыки – пожалуй, единственное, что во рту у него оставалось.
За ним на дороге – так вот оно что! – и на деревьях, чем дальше, тем гуще – сидели, обнявши младенцев, мамаши, старухи и девы младые.
Я попытался с ним заговорить, объясниться. Показал пустые ладони, извинился за них, мол, если б мы знали. Сказал, что не причиним вреда, что, мол, он же чувствует, понимает (я медленно, осторожно опускался на корточки перед ним, сидящим уже со стянутой муфточкой губ и поглядывающим на меня исподлобья) – кто мы. Что другой дороги
– как ему, конечно, известно – здесь нет, а нам бы только…
Он чуть качнулся в сторону, выглядывая за мою спину.
А это – Ксения, говорю, оборачиваясь, – она со мною. Сопя, он передвинул себя на обочину, подмахивая под себя ноги. Я сделал пробный шаг. Он вздохнул отвернувшись. Путь был свободен.
Пройдя с десяток шагов, я услышал тихий сдавленный вскрик. Ксения стояла, подняв руки, согнутые в локтях и сжатые в кулачки. Думаю, в одном из них был зажмурен тот ситцевый слепыш.
Стояла она на цыпочках, чуть отклонясь от де Сада, который, вцепившись левой рукою в подол ее сари, оттягивал его на себя до упора. Он так же стоял отклонившись, корпусом усиливая натяженье, правая рука согнута в локте и отведена за спину.
Взгляд – снизу – был вперен в ее лицо, рот осклаблен.