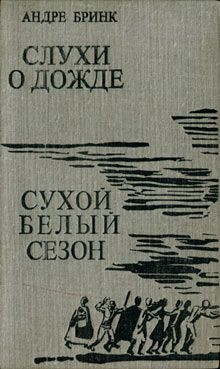Становление политического сознания чернокожих, о котором сейчас столько твердят, это, в сущности, прививка им политического сознания белых. (Как могут черные сами освоить сложные политические концепции белых, если они за столько веков своего развития не изобрели самостоятельно даже колеса?) Главное при этой прививке — разумное сочетание строгой дисциплины и той меры образования, какую чернокожие могут воспринять при переходе с одного уровня развития на другой.
Я считаю, что это менее всего имеет отношение к стремлению к господству. Речь идет о сохранении истинных ценностей. Мир, уже столько лет царящий в ЮАР (по сравнению с хаосом на всем континенте, где белые малодушно отреклись от своей опекунской ответственности), можно объяснить лишь тем, что буры завоевали этот край с ружьем в одной руке и с Библией в другой. Одно дополняло другое. Благодаря проповеди евангелия сберегались духовные ценности (демократия, мораль, личное совершенствование — все наше западное кальвинистское наследие). И мы не можем отступить, пока эти ценности не будут признаны остальными. Именно наши ценности, в этом вопросе у меня нет сомнений. Посмотрите, как обстоят дела в других странах Африки, где была сделана попытка внедрить другую систему.
Я всегда чрезмерно увлекаюсь, стоит мне начать говорить или писать об этом (что я делаю довольно часто во всевозможных докладах и статьях), но для меня в этом суть всей проблемы. Поэтому в экономической политике на моих предприятиях я руководствуюсь тем, чтобы направлять капитал в бантустаны. Там начало всего. Именно там необходимо в первую очередь повысить уровень жизни. К тому же это единственный разумный способ понизить рождаемость: человек, находящийся на последних ступенях социальной лестницы, плодится бездумно, как кролик, достигнув же определенного экономического благополучия и надежности, начинает относиться к этому иначе.
Вот почему я не могу согласиться с Бернардом. По характеру своей деятельности я знаком со многими либералами. И некоторых из них весьма уважаю. (Я не имею в виду тех обитателей английских пригородов, которые достаточно богаты, чтобы позволить себе либеральные жесты, но которые обращаются со своими черными слугами куда хуже, чем любой государственный служащий из африканеров.) Но все они занимаются абсолютно бессмысленным делом. Они выступают против самого уклада нашей жизни. И все их усилия могут привести лишь к новым жертвам. Совершенно ненужным жертвам на задворках подлинной жизни. Одной из таких жертв стал Бернард.
И я не принимаю упрека некоторых из моих друзей-либералов в том, что я, дескать, эксплуатирую богатства этой страны. Речь в данном случае может идти лишь об обоюдовыгодной коммерческой сделке: я использую ресурсы страны, а капитал, приобретенный мною, в свою очередь способствует экономическому развитию тех слоев населения, которые пока еще не в состоянии сами о себе позаботиться. В результате выигрывает вся страна.
Я и мои соплеменники прошли долгий путь, прежде чем достигли того, что имеем сейчас — к этому вопросу я еще вернусь, — и, если понадобится, мы будем бороться за свои права. Мы слишком хорошо помним, что значит жить бесправным в собственной стране. Теперь наконец пришло время пожинать плоды наших трудов. При этом я готов пойти на любую разумную уступку или компромисс, лишь бы гарантировать сохранность того, что я заработал собственными руками.
И это не пустые слова. Я ощущаю это ежечасно. Мне до сих пор доставляет истинное наслаждение скинуть обувь и босиком расхаживать по толстому, мягкому ковру в моем номере. Или заказать ночью по телефону легкий ужин и выпивку. Или пригласить массажистку. И хотя все это мне давно не в новинку, еще слишком живы воспоминания о том, как я босоногим мальчишкой бегал зимой в школу по промерзшей земле, как однажды летом, поскользнувшись на курином помете, упал в канаву между перечными деревьями и сломал ногу. Наливая виски, я вспоминаю бабушкину лимонную настойку и вкус теплого парного молока, которое я пил прямо из коровьего вымени. Я помню испеченные в золе лепешки и хлеб с патокой. Помню, как собирал куриные яйца и как лепил из глины быка для игрушечной тележки, сделанной из консервной банки. Помню жуткие истории о привидениях и гулкий голос дедушки, читающего вечернюю молитву. Помню, как голышом купался у запруды вместе с белыми и черными мальчишками с соседних ферм.
У этой запруды я однажды оказался на волосок от смерти (вторично мне довелось испытать такое лишь в этом году). Как-то в воскресенье, пуская по воде кораблики, я отошел довольно далеко от берега. Вдруг ноги мои увязли в тине, и я начал медленно погружаться в воду. Я закричал. Мальчишки в страхе бросились врассыпную. Я продолжал кричать, не помня себя от ужаса. Когда я увяз уже почти по пояс, один из мальчишек вернулся и кинулся мне на помощь. Это был чернокожий мальчишка с нашей фермы. Его звали Мпило. Он схватил меня за руку. Я чуть было не утянул в трясину и его. Наконец ему все-таки удалось как-то вытащить меня. В благодарность за спасение я подарил ему шиллинг (хотя знал, что ему хотелось бы получить мой перочинный нож). Впрочем, по тем временам шиллинг был для нас, детей, целым состоянием.
Все эти воспоминания всегда со мной. Они как бы часть меня самого. И по ночам они нередко возвращаются ко мне в моих тревожных снах.
* * *
Мы собирались провести этот уикенд вместе. По правде говоря, нам давно пора было уехать куда-нибудь и побыть вдвоем хотя бы неделю, как тогда в Понто-де-Оуро. Но мы оба были слишком заняты, чтобы позволить себе такую роскошь. (Помимо работы в университете, Беа, непонятно зачем, взялась еще преподавать африкаанс в школе в Соуэто.) Поэтому даже два дня вместе казались нам сущим раем. Когда же стало ясно, что мне совершенно необходимо поехать на ферму и уладить все дела прежде, чем его превосходительство министр Калиц придумает, как обвести меня вокруг пальца, я позвонил Беа, чтобы отменить нашу встречу.
— Это из-за волнений в Вестонарии?
— Нет. Я уезжаю на ферму.
— Мать заболела?
— Нет, по делу.
Она долго молчала, потом сказала:
— Понятно.
— Я все тебе потом объясню.
Она не ответила.
— Я вернусь в понедельник вечером. Мы можем увидеться во вторник.
— Хорошо.
— Ты сердишься?
— Вовсе я не сержусь. Я уже привыкла всегда быть на втором месте. Такова уж моя роль.
— Перестань, Беа.
— Прости. Это не важно. Раз ты решил ехать, то о чем тут говорить?!
Она разговаривала со мной из своей маленькой квартирки в Береа в старом доме, отделенном от узкой, идущей вверх улицы рядом высоких джакаранд. Я представил себе, как она стоит у окна, спиной ко мне. Склоненная голова, узкие плечи и бедра, длинные ноги. Скорее всего, босая. И без темных очков. Тридцатилетняя женщина, прошедшая через многие весны и зимы, отбросившая иллюзорную шелуху юности, не стыдящаяся откровенности своих чувств. Открытая и радости и боли, не желающая больше ни дурачить других, ни обманывать самое себя. И все же сколь ранимой может быть такая женщина. И не детской обидчивостью юности, а зрелой бескомпромиссной готовностью к потерям. («Ты видишь, я готова страдать, я страдаю, но это не важно. Ведь я живу. Я должна жить. Но я ни от кого не хочу зависеть».)
— Мне очень жаль, Беа, — продолжал я. — Ты же знаешь, как я ждал этого уикенда. Но мы можем встретиться на следующей неделе. Когда угодно. Мы же ничем не связаны.
— Да, конечно. — Голос ее звучал устало и равнодушно.
Я представил себе ее понуро опущенные плечи на фоне окна. («Почему ты не вешаешь трубку? Нечего стараться быть добреньким со мной».)
— Ну, пожалуйста, Беа, поверь мне.
— Я же сказала, что это не важно.
— Но я слышу, ты расстроена. — Я переложил трубку в другую руку. — Что-нибудь случилось?
Короткая пауза, словно она набирается решимости.
— Мне нужно кое-что с тобой обсудить… Не по телефону.
— Мы увидимся во вторник.
Да, конечно. Тут просто… мне казалось, что это срочно… Но разумеется, это может подождать. Все может подождать.
— Береги себя. Я ведь уезжаю всего на несколько дней.
И вдруг, отбросив прежнюю сдержанность, она спросила:
— Мартин, ты действительно никак не можешь отложить поездку? Мне необходимо увидеться с тобой.
— Я же сказал тебе.
— Ну, да… конечно… все понятно. — И словно про себя добавила: — О боже.
— До свидания, Беа. До вторника.
Она повесила трубку.
Такой разговор помнишь слово в слово. Ведь он был последним.
* * *
Запруда. Посреди заводи растет лилия, которая увеличивается прямо на глазах. Я вхожу в воду, чтобы сорвать ее для Беа, стоящей на берегу. Но как только я касаюсь стебля, ноги мои увязают в трясине. Краем глаза я вижу у запруды какого-то черного человека. Это, наверное, Мпило, но он почему-то похож на Чарли. «Помогите! — кричу я. — Помогите, тону!» Но человек продолжает стоять, скрестив руки на груди и спокойно наблюдая, как я все глубже погружаюсь в воду. Слава богу, это только сон.