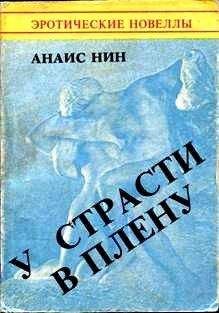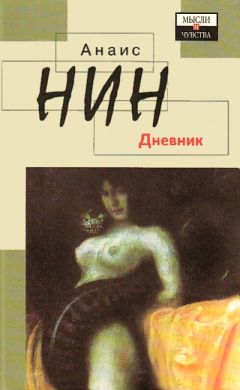Гитарист, скрипач, виолончелист и певец располагались под солнечным тентом. Певец пел так сладко и нежно, что даже гамаки замирали. Его голос покорял не только отдыхающих, но и самих музыкантов, и виолончелист, прикрыв глаза густыми ресницами, играл в такой расслабленной манере, как будто его смуглую руку удерживала лишь чудесная йоговская способность к левитации. Казалось, под его яркой рубашкой в стиле южных островов нет ни нервов, ни мускулов. Скрипач играл на скрипке с одной порванной струной, море то и дело уносило прочь часть звуков, но никто этого не замечал.
Привлекаемые музыкой волны раскручивались, как рулон шелковой ткани, и с каждым разом оказывались все ближе к музыкантам, словно желая добраться до воткнутой в песок виолончели. Виолончелист, казалось, не обращал на волны никакого внимания, но всякий раз, когда они устремлялись к инструменту, успевал, продолжая играть, поднять виолончель в воздух. Волны омывали его ноги, потом откатывались.
После музыкантов приходили дети с корзинами на головах. Они продавали фрукты и жареную рыбу. Появлялся старый фотограф со старомодным фотоаппаратом-гармошкой и с большим черным чехлом, под которым он прятал голову. Фотограф был так опрятно одет, а его усы — так гладко причесаны, что он сам казался сошедшим со старинной фотографии, превратившимся в черно-белую абстракцию ушедшей эпохи.
Лилиана не любила фотографироваться и, чтобы избежать встречи с ним, отправлялась плавать. Но фотограф был человеком бесконечно терпеливым и ждал ее молча — маленький, хрупкий, с выпрямленной спиной. Из-за неизменной улыбки морщинки еще сильнее проступали на его лице. Подобно старому садовнику, он относился к работе как к ритуалу и был преисполнен такого достоинства, что Лилиана невольно извинялась:
— Простите, что заставила вас ждать!
— Ничего-ничего, — говорил он мягко, устанавливая фотоаппарат на песке. И, перед тем как исчезнуть под черным чехлом, добавлял: — У всех нас времени гораздо больше, чем жизни!
Когда Лилиана фотографировалась, за ней наблюдал Эдвард, рыжий, усыпанный веснушками человек, бывший скрипач. Он жил на пляже в автоприцепе. Календарь его жизни определялся многочисленными браками. «Взрыв яхты? Это случилось во времена моей второй женитьбы». Когда кто-нибудь пытался вспомнить американского чемпиона по плаванию, нырявшего здесь среди скал, он говорил: «Четыре жены тому назад!» При этом его жены исчезали, но дети оставались. Они были такими загорелыми, что отличить их от местных детишек было невозможно. Эдвард перебивался случайными заработками: расписывал ткани, занимался делами серебряных лавок, строил кому-нибудь дом. Когда Лилиана его встретила, он распространял по всей Мексике календари с рекламой кока-колы. К его удивлению, людям календари нравились, и они вешали их на стены. Сейчас он развернул перед купальщиками картину с изображением человеческого жертвоприношения у майя. Юкатанская пирамида была на этой картине меньше женщины, которую собирались принести в жертву, а сама женщина похожа на цыганку Розу Ли. Гладко выбритый и очень худой жрец мало подходил на роль уничтожителя столь великолепного тела. Действующий вулкан по правую руку был размером с грудь приносимой в жертву девственницы.
Текила всегда вызывала у Эдварда желание полностью отречься от искусства. Он упорно твердил, что сбежал из мира музыки по собственному желанию:
— Музыка здесь никому не нужна. Голконда полна природной музыки, танцевальной музыки, музыки для песен, музыки для жизни. Мелодии уличных музыкантов лучше, чем сочинения любого современного композитора. Жизнь полна ритма сама по себе, люди работают и поют. Я ничуть не скучаю ни по концертам, ни по своей скрипке.
Второй стакан текилы давал волю воспоминаниям о концертных залах и музее современного искусства, словно до Голконды они были его домом. После третьего стакана начиналась лекция о бесполезности искусства:
— Здесь, среди лагун и джунглей, вам совершенно не нужны коллажи Макса Эрнста с его искусственными лагунами и болотами. Среди пустынь и песчаных дюн, где повсюду валяются кости коров и ослов, нет никакой нужды в картинах Танги, изображающих пустыню и побелевшие кости. А среди руин Сан-Мигеля кому понадобятся колонны Кирико? Меня здесь все устраивает. Не хватает только жены, которая согласилась бы питаться одними бананами и кокосовым молоком.
— Когда было холодно, — сказала Лилиана, — я отправлялась в отдел тропических птиц и растений в Sears Roebuck. Там было тепло, влажно, воздух едкий. Еще я ходила любоваться тропическими растениями в Ботанический сад. Уже тогда я искала свою Голконду. Помню, одна пальма выросла там до самой стеклянной крыши, и я видела, что она пытается пробить стекло, хочет выбраться наружу и освободиться. Я часто вспоминаю эту узницу в клетке, когда вижу в Голконде пальмы, подметающие небо.
После третьего стакана текилы голос Эдварда переставал быть металлическим, и он то и дело бросал взгляд на левую руку, где недоставало одного пальца. Он никому не говорил, но все вокруг знали, что именно это сгубило его карьеру скрипача.
Знали и то, что его детей любили, кормили и защищали все жители Голконды. Дети таинственным образом воспринимали многочисленных матерей как одну-единственную мать, имеющую много обликов и говорящую на многих языках. Сейчас такой матерью стала Лилиана, как будто они чувствовали, что внутри нее есть полость для детей, уже сформировавшаяся, однажды использованная, хорошо знакомая, в которой детям так уютно. И Лилиана изумлялась их проницательности, удивлялась, откуда им известно о том, что когда-то у нее были дети и что она их потеряла.
Откуда было им знать, что она уже целовала такие же веснушки на носу и такие же худенькие локти, заплетала такие же спутанные волосы и знала, где найти потерявшиеся туфельки. Дети не только позволяли ей играть роль отсутствующей матери, но и сами играли роль ее отсутствующих детей, словно угадывая пустующую в ней нишу.
Она и дети обнимали друг друга с пониманием этого замещения, что привносило в их дружбу чувство такой близости, какой с другими временными матерями дети прежде не испытывали.
Ей одной они признавались в своем отношении к очередному выбору отца. Они тщательно изучали новенькую избранницу, оценивая ее возможности, и обнаружили следующую закономерность. «Если она любит в первую очередь нас, — говорили они, — это не нравится отцу. Если она любит больше его, то не хочет видеть нас».
Вскоре на пляже появилась победительница конкурса красоты, проводившегося американской авиакомпанией. Она преподносила себя так, словно оказалась на показе мод, где должна была как можно меньше двигаться, чтобы глаза присутствующих успели ее сфотографировать. Манера, с которой она держалась, не замечая остальных, делала ее похожей на глянцевую картинку, которую вырезают из плакатов и берут с собой, отправляясь на войну, молодые солдаты. Гладкая поверхность без единого пятнышка, без единой мысли в голове, от которой мог бы нахмуриться лоб. Она выставляла себя напоказ, никого при этом не признавая. Она не отправляла посланий своим нервам и органам чувств и ничего от них не получала. Она приближалась к другим людям, не излучая ни тепла, ни холода. Она была воплощением идеальных волос, кожи, зубов, тела и формы, которое не имело права ни ржаветь, ни морщиться, ни плакать. Все выглядело так, будто при ее создании Господь использовал синтетические элементы.
Дети Эдварда чувствовали себя рядом с этой девушкой неуютно, потому что постоянно представляли себе, что их отца может околдовать совершенство предлагаемою ею образа — чистые голубые глаза, изящная прическа, безупречный профиль. Но вскоре она сделала собственный выбор: ее компаньоном по пляжным прогулкам стал отставной моряк, отправленный на пенсию после того, как вызвался участвовать в каких-то испытаниях, связанных с атомной бомбой, и что-то себе повредил. Никто не осмеливался спросить и даже не догадывался о природе этого повреждения. Сам он был крайне лаконичным: «Я получил внутреннее повреждение». Внешне ничего не было заметно. Он был высоким, сильным блондином с такой нежной кожей, что не мог загорать. Его голубые глаза вполне соответствовали голубым глазам королевы красоты американской авиакомпании; и в тех и в других не было ни следа печали, и те и другие были созданы для того, чтобы ими восхищались. Он не любил рассказывать свою историю, но, выпив, признавался: «Я записался добровольцем и поэтому был помещен настолько близко, насколько возможно… и получил внутреннее повреждение. Вот и все».
Ни один из них не стремился к сближению, но, пребывая как бы в одной сфере, на одной высоте и обладая одинаковой беспристрастностью наблюдателя, они стали встречаться и вместе прогуливаться. Они никогда не смотрели друг на друга не отрываясь, как это свойственно влюбленным мексиканцам.