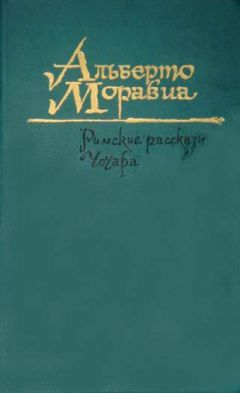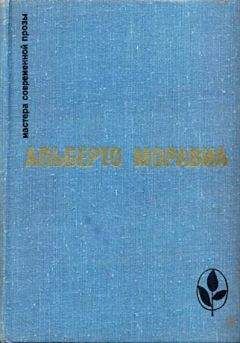Я обернулся, чтобы посмотреть на собаку. Но никаких собак не увидел, хотя среди всех этих куч мусора самое место было бродячим псам. Тогда я подумал, что, наверное, этот зов относится ко мне, и поглядел в ту сторону, откуда доносились звуки. За кучей отбросов я увидел лачугу, которой до сих пор не замечал. Это была крошечная покосившаяся хибарка с крышей из гофрированного железа. У дверей стояла белокурая девочка лет восьми и делала мне знаки, чтобы я вошел. Лицо у девочки было бледное, грязное, под глазами синие круги, как у взрослой женщины, волосы в пыли, пуху и соломе, отчего голова у нее была взъерошенная, как у коршуна. Одета она была проще простого: пеньковый мешок с четырьмя дырками — две для рук и две для ног. Когда я обернулся, она спросила:
— Ты не доктор?
— Нет, — ответил я. — А что? Тебе нужен доктор?
— Если ты доктор, — продолжала она, — то зайди. Маме плохо.
Я не стал уверять девочку, что я не доктор, и вошел в лачугу. В первую минуту мне показалось, что я попал в лавку старьевщика с рынка Кампо ди Фьори: с потолка свисала всякая рухлядь: одежда, чулки, ботинки, домашняя утварь, посуда, тряпье. Но потом я понял, что жильцы, за неимением мебели, развесили свое имущество на гвоздях. Наклонив голову, чтобы не задеть висящие вещи, я озирался по сторонам, ища мать ребенка; девочка украдкой указала мне на кучу лохмотьев в углу. Присмотревшись, я увидел, что этот узел тряпья пристально глядит на меня одним сверкающим глазом; другой глаз был закрыт прядью седых волос. Вид этой женщины ужаснул меня: она выглядела старухой, но в то же время ясно было, что она еще молода. Поймав мой взгляд, она вдруг сказала:
— Знакомые на этом свете всегда повстречаются, коль не умрут.
Девочка расхохоталась, словно начиналось забавное представление, и, присев на корточки, стала играть пустыми консервными банками.
— Но, право же, я тебя не знаю, — сказал я. — Кто ты? Эта девочка твоя дочь?
А она мне:
— Конечно… Она и твоя дочь тоже…
Девочка снова захихикала исподтишка, не поднимая головы. Я принял это за шутку и ответил:
— Может быть, моя, а может, и кого другого.
— Нет, — ответила женщина, приподнявшись с земли и указывая на меня пальцем, — это именно твоя дочь и только твоя… Бездельник, лентяй, трус, мерзавец — вот кто ты такой!
При этих оскорблениях девочка начала громко смеяться, словно только и ждала их.
— Придержи язык… — говорю я возмущенно, — я же сказал, что не знаю тебя.
— Ах, ты меня не знаешь?.. Не знаешь, а все-таки вернулся сюда? Если ты меня не знаешь, как же ты нашел дорогу к дому?
— Трус-мерзавец, трус-мерзавец, — вполголоса стала напевать девочка.
Меня прошиб пот от жары и злости.
— Я случайно проходил здесь,- ответил я.
— Ах, бедняжка, — проговорила женщина насмешливо и, повернувшись к девочке, приказала: — Дай мне сумку.
Девочка проворно сдернула с гвоздя сумочку из черного бархата, всю рваную и грязную, и дала матери. Та открыла ее, вынула лист бумаги и сказала:
— Вот брачное свидетельство: Эльвира Проэтти, супруга Эрнесто Рапелли… Ты еще будешь отнекиваться, Эрнесто Рапелли?
А меня как раз зовут Эрнесто. Меня ужасно поразило это совпадение.
— Но я не Рапелли,- сказал я растерянно.
— Ах, не Рапелли?.. Девочка теперь распевала:
— Эрнесто, Эрне-есто.
Женщина поднялась на ноги. Я угадал верно: хоть она была седая, вся в морщинах и без зубов, все же видно было, что ей не больше тридцати лет.
— Ах, так ты не Рапелли… — Подбоченясь, она подошла ко мне, пристально поглядела и крикнула: — Ты Рапелли! Перед богом и людьми, ты и есть Рапелли!
— Понимаю, — говорю я, — ты себя плохо чувствуешь. С твоего позволенья, я уйду.
— Нет, погоди минутку!.. Не так скоро! Девочка вне себя от восторга плясала вокруг нас. Женщина снова заговорила с насмешкой:
— Эрнесто, синьор Эрнесто… который бросает жену, удирает из дому и целый год не показывается… А знаешь ли ты, как мы жили с ребенком весь этот год, пока тебя не было?
— Не знаю, — сказал я резко, — и знать не хочу. Дай мне уйти.
— Скажи ты ему, — крикнула она девочке, — скажи ты ему, чем мы жили, скажи твоему отцу!
— Милостыней, — с готовностью отвечала девочка нараспев, в свою очередь подходя ко мне.
Признаюсь, я был совсем сбит с толку. Все эти сов-паденья: имя Эрнесто, то, что я ушел из дому, и то, что у меня тоже есть жена и дочка, подействовали на мои нервы так, что мне уже казалось, что и я — не я, а кто-то другой и в то же время словно бы и я, но только не такой, как всегда. А она, видя, что я растерялся, кричала мне в лицо:
— А знаешь, что бывает тому, кто бросает семью? Каторга… Понял, преступник? Каторга!
Тут уж я просто испугался и молча повернулся к двери, чтобы уйти. Но на пороге кто-то стоял и смотрел на нас. Это была худенькая женщина, бедно, но чисто одетая. Увидев мое расстроенное и недоумевающее лицо, она сказала:
— Не слушайте ее… У нее не все дома… Как увидит мужчину, ей представляется, будто это ее муж… А эта паршивая девчонка, ее дочь, нарочно зазывает в дом прохожих, для забавы, чтобы послушать, как мать кричит и плетет невесть что… Смотри, я тебе задам, злая ведьма!
Она замахнулась, чтобы дать девчонке затрещину, но та ловко увернулась и снова стала прыгать вокруг меня, весело припевая:
— Ты поверил, ведь правда, поверил… и струсил… струсил… струсил…
— Эльвира, это не твой муж, — мягко сказала женщина.
Эльвира, словно ее сразу убедили, замолчала, отошла и снова скорчилась в углу. Женщина вошла в лачугу и стала ворошить угли в печурке.
— Я им готовлю, — объяснила она. — Они и правда живут подаянием, но муж ее не бросал, он просто умер.
С меня было довольно. Я вынул сто лир и дал девочке, которая взяла их, даже не поблагодарив. Потом я вышел и отправился прямехонько обратно: по тропинке, по асфальтовой дороге и через мост к себе домой, на виа Остиензе.
Дома по сравнению с духотой лачуги мне показалось прохладно, как в пещере. И хотя мебели у нас немного и она очень простая, но все же это лучше гвоздей, на которых те несчастные развешивали свои тряпки. В кухне уже было все прибрано; жена достала салат из огурцов, который припрятала для меня, и я съел его с хлебом, глядя, как она, стоя у раковины, мыла посуду. Потом я встал, потихоньку поцеловал ее в шейку, и мы помирились.
Через несколько дней я рассказал жене историю с лачугой и решил пойти туда снова — посмотреть, не могу ли я сделать что-нибудь для девочки. Теперь я уж не боялся, что меня примут за Эрнесто Рапелли. Но, верите ли, я не нашел ни лачуги, ни сумасшедшей женщины, ни девочки, ни той другой худенькой женщины, которая варила им обед. Я целый час бродил под палящим солнцем среди мусорных куч и в конце концов пришел домой ни с чем. Я думаю, что спутал дорогу. А жена моя уверяет, что я просто выдумал эту историю, терзаемый угрызениями совести за то, что хотел было бросить ее.
Год мы любили друг друга, Агата и я. Потом я начал замечать, что она мало-помалу охладевает ко мне, мы стали встречаться все реже и реже. Это было похоже на то, как гаснет огонь: сперва вы этого даже не видите, и вдруг оказывается, что осталась только зола да обгоревшие головешки, и вам сразу становится холодно. Сначала не было ничего особенного: недомолвки, молчание, взгляды. Потом пошли отговорки: то ей нездоровится, то она занята, то надо помочь матери по дому или пойти на курсы. Наконец, опоздания и спешка: она приходила на свиданья с опозданием по меньшей мере на час, а через пятнадцать минут уже убегала под каким-нибудь предлогом. Она стала разговаривать со мной нетерпеливо, раздраженным тоном, как будто все, что я говорил, было некстати. А несколько раз мне показалось, что она старается избежать моих поцелуев и даже прикосновения руки. Все это очень мучило меня. Но я чувствовал, что, хотя она относится теперь ко мне очень плохо, я люблю ее все так же сильно. Когда она цедила сквозь зубы: «Прощай, Джино», я ощущал такую же радость, какую испытывал прежде, слыша: «Я так тебя люблю!» Однажды, когда мы встретились на площади Фламинио, я наконец набрался мужества и решительно сказал:
— Поговорим начистоту. Ты больше не испытываешь ко мне никакого чувства?
Поверите ли, она расхохоталась и ответила:
— Ну и толстокожий ты!.. Мне хотелось посмотреть, когда же тебя проймет… Наконец-то ты догадался.
Я так и обомлел. Потом повернулся, как марионетка вокруг своей оси, и пошел назад. Однако, сделав несколько шагов, я обернулся: может быть, она окликнет меня. Но она направилась к остановке и преспокойно стала ждать трамвая. Я ушел.
Теперь, когда прошло столько времени, я могу над этим смеяться, но тогда я был влюблен, и любовь делала меня слепым. Я пережил скверные дни: мне очень хотелось разлюбить ее, но я чувствовал, что люблю по-прежнему. Чтобы заставить себя разлюбить Агату, я старался припомнить все ее недостатки. Я говорил себе: «У нее кривые ноги и безобразная походка… Руки некрасивые… Голова непропорционально большая… Сносны только глаза и рот… А лицо бледное, даже желтое… Волосы темные и курчавые, а нос, широкий у переносицы и вздернутый, напоминает ручку кофейника». Напрасный труд: я говорил себе это и в то же время чувствовал, что ее ноги, руки, волосы, нос нравятся мне — и нравятся, пожалуй, именно потому, что они некрасивые. Тогда я начинал думать: «Она лжива, необразованна, ума у нее не больше, чем у канарейки, она тщеславна, эгоистична, она кокетка». Но тут же обнаруживал, что именно эти ее недостатки и горячат мою кровь, будоражат воображение. Словом, я не перестал ее любить.