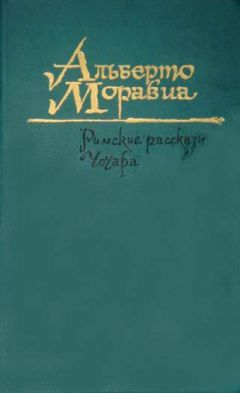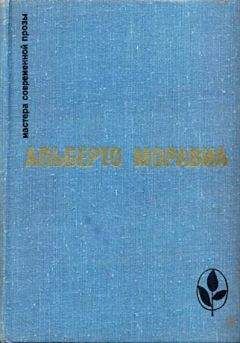Наконец подошла ее очередь. Она вошла в кабинет помощника режиссера и пробыла там около двух минут. Затем так же гордо вышла. Было условлено, что помощник режиссера посмотрит ее фотографии и скажет:
— Синьорина, возможно, что вы скоро понадобитесь нам… Будьте готовы, в один из ближайших дней мы вас вызовем.
И все. Но для Агаты этого было вполне достаточно. Она вошла в кабинет бедной девушкой, а вышла оттуда, воображая себя уже известной киноактрисой, может быть, даже звездой.
Я тоже поднялся и пошел следом за ней по длинным пустым коридорам. Она неторопливо ступала своими кривыми ногами — гордая и высокомерная. В том месте, где коридоры пересекались, она на мгновение замешкалась, не зная, куда идти, потом повернула к вестибюлю и вышла на улицу.
Павильоны киностудии расположены на окраине, вдоль шоссе. С одной стороны дороги тянутся залитые октябрьским солнцем поля, с другой высокие, словно башни, дома с бесчисленным количеством окон, на которых сушится белье. В этих домах живут рабочие. Агата медленно шла мимо домов. Вскоре я догнал ее и, задыхаясь, окликнул:
— Агата!
Она взглянула на меня и бросила, почти не оборачиваясь:
— Привет, Джино…
Я выпалил единым духом свою скорбную мольбу:
— Агата, почему ты не хочешь меня видеть?.. Я так тебя люблю… Почему ты не любишь меня?.. Агата, давай как-нибудь увидимся.
— Разве ты не видишь меня сейчас? — спросила она, пожимая плечами.
— Агата, — сказал я,- ты выйдешь за меня замуж?
— И не подумаю, — ответила она, продолжая идти.
— Почему?
— А чем ты сейчас занимаешься?
— Работаю дублером, но…
— Почему ты непременно хочешь стать актером? — ехидно спросила она. Неужели ты не понимаешь, что это не для тебя?.. Работаешь дублером и хочешь жениться на мне… Ты что, считаешь меня дурой?
— Агата! — воскликнул я с отчаянием, хватая ее за руку. Она резко вырвалась. Это меня очень обидело, и я совсем потерял голову и крикнул: Дублер все-таки лучше, чем ничего… Ты что, думаешь, что сегодня тебе звонили всерьез? Это я попросил помощника режиссера вызвать тебя… Потому что мне захотелось тебя увидеть… Тебе, дорогая моя, не поручат даже шум за кадром.
Я сразу же пожалел о сказанном, но было уже поздно. По ее поведению я понял, что она поверила мне. Я понял также, что, сказав ей это, утратил всякую надежду на то, что она ко мне вернется.
Агата ничего не ответила, не остановилась, не изменилась в лице, не взглянула на меня: она продолжала идти, медленно, спокойно, держа под мышкой сумочку. Я семенил рядом, умоляя ее простить меня. Но она делала вид, что не замечает меня. Глядя прямо перед собой, Агата неторопливо шла по пустынной улице мимо полей и домов, в которых живут рабочие. Наконец, убедившись, что она не желает меня слушать, я остановился посреди тротуара и стал смотреть, как она удаляется. Должно быть, она испытала страшное разочарование. Но об этом можно было догадаться только по ее походке. До этого она была гордой и самодовольной, а теперь стала такой печальной. Агата шла, немного понурив голову. Мне стало жаль ее, и я вдруг почувствовал, что никогда еще не любил ее так сильно. Я открыл рот, чтобы крикнуть: «Агата!», но в это самое мгновенье она свернула в переулок и скрылась. Я успел только произнести первое «А» имени Агата и остался один на пустынной улице.
В ту зиму, просто чтобы испробовать еще одну профессию, я стал бродить по ресторанам, аккомпанируя на гитаре одному приятелю, который пел. Его имя было Милоне, но все звали его «учитель», потому что когда-то он преподавал шведскую гимнастику. Это был здоровенный мужчина лет пятидесяти или около того, не то чтобы очень жирный, но широкий и коренастый, с толстым, угрюмым лицом и грузным телом, под которым жалобно скрипели стулья, когда он садился. Я играл на гитаре в своей обычной манере, серьезно, сидя спокойно, почти не шевелясь и опустив глаза, потому что ведь я артист, а не шут; но зато Милоне вечно изображал из себя шута. Он начинал словно невзначай, прислонившись к стене, засунув под мышки большие пальцы рук. В надвинутой на глаза шляпе, с огромным брюхом, вылезавшим из брюк и перехваченным снизу ремнем, который вот-вот лопнет, он был похож на пьяницу, тихонько скулящего под луной. Но вот мало-помалу он входил в роль и начинал не то чтоб петь (у него не было ни голоса, ни слуха), а скорее давать представление или, лучше сказать, паясничать. Его специальностью были чувствительные песни, самые известные, те, которые обычно так трогают и волнуют; но в его устах эти песенки из трогательных становились пошлыми и смешными, потому что он умел все осмеять, и притом совсем по-особому, как-то неприятно, горько. Не знаю, в чем тут было дело: может, в молодости его обидела какая-нибудь женщина или таким уж он уродился, с этим вот грубым, насмешливым характером, но только ему доставляло удовольствие обливать грязью все светлое и хорошее. Он не просто изображал, нет, он вкладывал в свои шутовские выходки какую-то непонятную страсть, ненависть, и остается только предположить, что люди за едой тупеют, если слушатели его не замечали, что то, что он делает, не смешно, а гадко и страшно. Особенно превосходил он самого себя, передразнивая жесты, взгляды и ужимки женщин, высмеивая их слабости и недостатки. Что делает обычно женщина? Кокетливо улыбается? Вот он и скалит зубы из-под полей надвинутой на лоб шляпы, как дешевая потаскушка. Немножко, как говорится, вихляет бедрами? Что ж. Он трясет животом, непристойно выставив зад, толстый и тяжелый, как туго набитый мешок. Лепечет что-нибудь нежным голоском? И он, глядишь, складывает губы в трубочку и пищит при этом так приторно, так противно, что просто тошнит. Короче говоря, он не знал меры и переходил всякие границы, делался пошлым, омерзительным. Мне иногда просто самому стыдно становилось, потому что одно дело аккомпанировать на гитаре певцу, а другое — подыгрывать шуту. А потом я помнил, как совсем недавно аккомпанировал прекрасному артисту, который пел те же самые песни по-настоящему, серьезно. И мне было больно видеть, во что превращают эти песни, какими они становятся гадкими и непристойными просто и узнать нельзя. Я как-то раз сказал ему об этом, когда мы брели по улице, направляясь из одного ресторана в другой. И прибавил:
— И что худого сделали тебе женщины?
После своих шутовских представлений он всегда становился рассеянным и угрюмым, словно в голове у него бродили невесть какие мрачные мысли.
— Ничего, — ответил он, — ничего они мне не сделали.
— Я потому спрашиваю, — пояснил я, — что ты высмеиваешь их с такой страстью…
На этот раз он не ответил, и разговор на том и кончился.
Я бы давно ушел от него, если б не хороший заработок; потому что, как это ни покажется невероятным, он со своими пошлыми выходками делал большие сборы, чем настоящие певцы, поющие прекрасные песни. Мы исполняли свои номера по большей части в ресторанах средней руки, не слишком роскошных, вернее даже просто в тратториях подороже, куда люди приходят хорошенько поесть и повеселиться. Так вот, как только мы входили и я тихонько вынимал из футляра свою гитару, из-за столиков, которые все всегда были заняты, слышалось:
— А, учитель!.. Вот и учитель… Поди сюда, учитель!
Угрюмый, неопрятный, с наглым взглядом, Милоне развязной походкой выходил вперед со словами: «К вашим услугам!» И это «к вашим услугам» он говорил уже ломаясь и паясничая, так что все покатывались со смеху. Тут поспевали макароны с сыром, и, пока трактирщик обносил гостей, Милоне своим надтреснутым голосом объявлял:
— Прекраснейшая песенка: «Когда Розина приезжает в город…» Я буду изображать Розину.
Вы только представьте себе: глядя, как он изображает Розину, пуская в ход обычные пошлые трюки, люди застывали на месте, не успев донести до рта вилку со свисающими с нее макаронами. И не думайте, что это были какие-нибудь мясники или что-нибудь подобное; нет, это все был народ изысканный: мужчины в темно-синих костюмах с напомаженными волосами, в галстуках, заколотых жемчужной булавкой; женщины в мехах, сплошь увешанные драгоценностями, нежные и изящные. И глядя, как Милоне паясничает, они говорили:
— Это потрясающе… Это просто потрясающе!
А бывало кто-нибудь из них с тревогой воскликнет:
— Пожалуйста, никому не рассказывайте о том, что мы его открыли… не то его избалуют и испортят.
Среди других пошлостей была в репертуаре Милоне песенка, исполняя которую он в одном месте, чтоб еще более высмеять ее героя, производил ртом звук, который я не решусь здесь описать. Так что ж вы думаете? Как раз эту песенку обычно просили повторить самые очаровательные женщины.
Надо сказать, что от такого успеха у Милоне несколько закружилась голова. Он снимал на виа Чимарра меблированную комнату, темную и сырую, у одной портнихи. И теперь каждый раз, когда я заходил за ним, я заставал его перед зеркалом — репетирующим какую-нибудь новую пошлую выдумку, какую-нибудь новую непристойность. Он делал это с мрачным упорством, словно великий актер, репетирующий роль. А я, сидя на кровати и глядя, как он трясет животом перед зеркалом, стоящим на комоде, спрашивал себя: уж не помешался ли он?