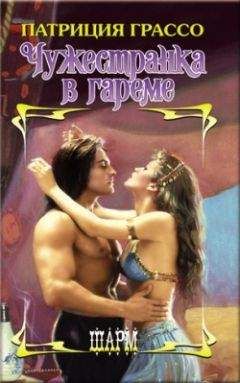Раб риторики! Эта опасность подстерегает всегда, когда служит музой Б-г. Философы, мыслители — все прокляты. Поэтам лучше: большинство из них греки и язычники, верят разве что в природу, в камни, звезды, тело. Это камера, клетка. Островер уже приговорил его к тюрьме, к келье в заснеженной долине. Белый листок — что-то белое — на полу. Эдельштейн нагнулся за ним и ударился подбородком. За мутным стеклом двери из мглы вставало утро. На листке было написано:
«Все мы люди, но некоторым людям лучше сдохнуть».
Думаете так же?
Тогда звоните TR5-2530, и вы узнаете,
Выживете ли вы
В недорогой пятидневке для избранных,
Предложенной Христом
«Искусство френологии»
Приобщайтесь бесплатно
(атеистам и психам просьба не беспокоить. Мы занимаемся истинно научной духовной социологией).
Спросите Розу или Лу
Мы вас любим
Он был тронут, заинтересован, но как-то вчуже. Холод обжигал по-новому: тело было светящейся пустотой — избавлено от органов, очищено от шлаков, стеклянный сосуд, освещенный изнутри. Прозрачная чаша. Из мелочи были только две монеты в пять и десять центов. На десятицентовик можно было набрать TR 5-2530, получить совет, достойный его чистоты и прозрачности. Розу или Лу. Над их любовью не хотелось смеяться. Как многолико и разнообразно человеческое воображение. Манила простота восхождения, он, если такое возможно, был готов воспарить, но значения этому не придавал. Ученики ребе Мойше из Кобрина тоже не придавали значения подвигам, опровергающим природу, они не трепетали перед учителем, когда он парил в воздухе, а вот когда спал — чудо его дыхания, его сердцебиения! Он, пошатываясь, выбрался из телефонной будки на набиравший силу дневной свет. Один ботинок увяз в сугробе. Змея тоже преуспевает без ног, и он отбросил свои и пополз вперед. Руки, в особенности ладони и пальцы, — соратников ума терять было жалко. Он знал свои глаза, свой язык, свои пылающие чресла. И снова накатило искушение вознестись. Холм был крут. Он обхитрил его — пробрался сквозь, пробуравил сугроб. И тут захотел встать, но без ног не сумел. Он, не торопясь, приподнялся. Ровно настолько, чтобы увидеть заметенные снегом тротуары, заваленные сугробами сточные канавы и ступени, начало рабочего дня. Наплывающий свет. Из здания выскочил швейцар в меховых наушниках — он тащил за собой, как тележку, лопату. Эдельштейн увяз в сугробе на уровне его плеч. Он смотрел, как лопата вгрызается в снег, входит все глубже, но дна не было, земля потеряла основание.
Его накрыло черное крыло. Он подумал, что так, надвигаясь, слепит смерть, но это был всего лишь навес.
Швейцар копал под навесом; под навесом Эдельштейн пил вино — словно на собственной свадьбе, и навес укрывал запотевшие очки в золотой оправе, его ослепило покрывало Миреле. Шесты держали четверо: почтальон — кузен жены, его собственный двоюродный брат-аптекарь и двое поэтов. Первый поэт — нищий, живший на благотворительные средства, Баумцвейг; второй, Сильверман, продавал дамские эластичные чулки, от варикоза. Почтальон и аптекарь оба были живы, только один ушел на пенсию. Поэты стали призраками, Баумцвейг, чесавшийся во сне, тоже был призраком, Сильверман давно умер — лет двадцать назад, его называли лиделе-шрайбер,[59] он писал для эстрады, «Песня третьему классу»: «Третий, третий класс, я помню эти толпы, помню тряпье, которым мы укрывались, мы его скинули, когда заметили берег, — думали, что родимся заново, войдя в золотые врата». Даже на Второй авеню 1905 год был позавчерашним днем, но на этой песенке шоу прерывалось — восторги, вызовы на бис, слезы, крики. Золотые тротуары. Америка-невеста, под шикарным платьем — ничего. Бедный Сильверман, влюбленный во вскинутую руку Статуи Свободы, что он сделал в жизни, кроме как подержал шест на бесплодной, не давшей потомства свадьбе.
Швейцар раскопал скульптуру — урну с каменным венком.
Эдельштейн взглянул из-под навеса, узнал. В песке, в окурках полуобнаженный ангел верхом на венке. Однажды Эдельштейн обнаружил в венке презерватив. Нашел! Это дом Воровского. Б-га нет, но кто его привел сюда, как не Владыка Вселенной? Не так уж плохо, в конце концов, он может найти дорогу даже в метель, мастер — отличает один квартал от другого в этом разоренном мире.
Он нес ботинок к лифту как младенца, сироту, искупление. Он мог даже ботинок поцеловать.
В коридоре смех, шумит вода в толчках; пронзил запах кофе.
Он позвонил.
За дверью Воровского — смех, смех!
Никто не вышел.
Он снова позвонил. Никого. Он заколотил в дверь.
— Хаим, старый псих, открывай! — Никого. — С холоду помираю, а ты не открываешь! Давай, поторапливайся, я окоченел, хочешь, чтобы я у тебя на пороге окочурился? Имей сострадание! Жалость! Открой!
Никто не вышел.
Он слушал смех. В нем был свой характер, точнее, метод: некий закон, скорее физики, нежели музыки, по которому он то вздымал, то откатывал. Внутри этой формы лай, вой, собаки, волки, дикая природа. Стоит испугаться — разверзается пропасть. Он вдарил ботинком по дверной ручке — как молотом по наковальне. Бил и бил. Давил как айсберг.
Дверная панель у ручки прогнулась и треснула. Не по его вине. Кто-то с той стороны не мог справиться с замком.
Слышал он Воровского, а увидел Ханну.
— Что надо? — сказала она.
— Вы меня не помните? Я тот, кто вечером читал вам свои старые стихи, был поблизости, зашел к вашему дяде…
— Он болен.
— У него припадок?
— Всю ночь. Я здесь всю ночь сижу. Всю ночь…
— Впустите меня.
— Прошу вас, уходите. Я же вам сказала.
— Впустите. Что с вами такое? Я сам болен, я умираю от холода. Эй, Хаим! Ненормальный, давай, прекращай!
Воровский лежал на полу, на животе, затолкав в рот вместо камня подушку, бился об нее головой, но без толку — хохот сотрясал подушку и рвался наружу, но не сдавленный, а набравший мрачной силы. Хохоча, он сказал:
— Ханна! — и продолжал хохотать.
Эдельштейн взял стул, пододвинул к Воровскому, сел. Комната воняла, как отхожее место в подземке.
— Прекрати! — сказал он.
Воровский хохотал.
— Ну и ладно, веселись, давай, радуйся. Ты в тепле, а я намерзся. Деточка, имей сострадание — чаю мне. Ханна… Вскипяти как следует. От меня куски отваливаются. — Он услышал, что говорит на идише, и начал заново — для нее. — Извините. Прошу прощения. Я не прав. Я заблудился, искал и вот вас нашел. Извините.
— Неподходящее время для визита, вот и все.
— И дяде чаю принесите.
— Он не может пить.
— А вдруг сможет, пусть попробует. Кто так смеется, готов к пиршеству — фланкен, цимис, росселфлейш[60]… — И сказал на идише: — В грядущем мире люди будут танцевать на празднике, везде будут смех и радость. Когда придет Мессия, люди будут так смеяться.
Воровский расхохотался, сказал: «Мессия» и вгрызся в подушку. Лицо у него было насквозь мокрое: слезы катились со щек в глаза, по лбу, вокруг ушей стояли озерца слюны. Он плевался, плакал, задыхался от хохота, снова хватал ртом воздух, рыдал, отплевывался. Глаза в красных прожилках, белки сверкают, как разверстые раны, даже шляпу не снял. Он хохотал, хохотал без удержу. Брюки мокрые, ширинка расстегнута, оттуда нет-нет да и сочится струйка. Увидев чай, он выпустил подушку, рискнул пригубить, вернее, лизнул, как зверь, в надежде — на третьем глотке подкатила рвота, он хохотал между ее спазмами, все хохотал, и от него воняло клоакой.
Эдельштейн наслаждался чаем, чай пробирал насквозь, будоражил нутро куда больше, чем кофе, которым пропах коридор. Он хвалил себя без злобы, без горечи: верх рассудительности! Оттаяв, он сказал:
— Дайте ему шнапс, шнапс-то он наверняка удержит.
— Уже пил, его вырвало.
— Хаим, бедненький, — сказал Эдельштейн, — с чего ты так завелся? Это я. Я там был. Я сказал про это — про могилы, про дым. Я ответственный. Смерть. Смерть, это я это сказал. Над смертью смеешься — значит, не трус.
— Если хотите поговорить с дядей про дела, приходите в другой раз.
— Про смерть — это про дела?
Он оглядел ее. Родилась в 1945–м, во времена лагерей смерти. Не из избранных. Непрошибаемая. В ней эта непрошибаемость, под которой он подразумевал все американское, глубоко засела. И все равно, измученное дитя, заблудшая овца, удивительная девочка — всю ночь просидела с безумцем.
— Где твоя мать? — спросил он. — Почему не пришла присмотреть за братом? Почему все валится на тебя? Ты должна быть свободна, у тебя своя жизнь.
— Что вы знаете про семьи?
Она попала в точку: ни матери, ни отца, ни жены, ни ребенка — откуда ему знать про семьи? Он — отрезанный ломоть, выжил.