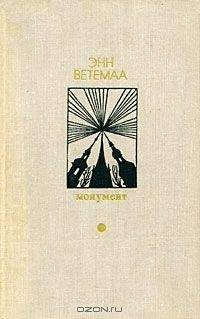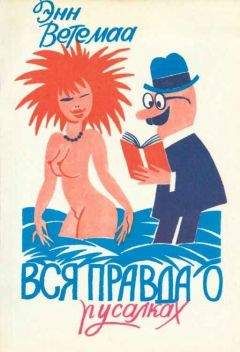— Граф сказал, что между нами все кончено, — тихонько всхлипнула девушка. — Кажись, ничего мне другого не остается, как сунуть голову в петлю. Всему конец и баста! — Однако, едва произнеся роковой вердикт, она остановила взгляд на стеклянной полусфере, служившей прессом для бумаг, когда проветривали комнату. — Ой, какое прелестное яичко! — воскликнула она в восхищении. — Вот бы мне такое…
— Заткнись! — напустился Себастьян. И девушка опять сникла, впрочем, не в силах отвести взгляд от усеченного яичка, которое отбрасывало на письменный стол переливающиеся концентрические круги.
— Этот самый Граф — а я с трудом его терплю, поскольку он без достаточного почтения относится к нашим правителям, — измордовал девочку. После этого Магдалина скрылась в кустах за железнодорожной станцией. Прихватила с собой пять бутылок авиационного бензина и дышала им под большим платком. Целых три штуки опорожнила, когда ее нашли.
— Бензин клевый, кайф дает, — радостно хихикнула девушка.
— Ну да, ее нашли еле живой. И один уважаемый доктор сказал, что у Магдалины, судя по всему, размягчение мозгов… Еще пяток, нет, десяток золотых придется накинуть! Прежде мы шагу отсюда не сделаем! И вся недолга!
По всей вероятности, молодой человек немало удивился тому, что разжижение мозгов котируется гораздо ниже венерических напастей, только едва ли он поделился с присутствующими своим открытием — был слишком потрясен: выходит, в их благословенном государстве есть семьи, где источником дохода служит проституция и даже непристойные болезни. Возмутительно! До чего же гнусен мир, в который его подкинули, закутав в талар!
Во тьму обратил свой взор молодой человек, стоя на своем любимом месте возле окна, и, конечно, Себастьян не упустил благоприятной возможности — сунул в карман ножик с перламутровой ручкой.
Мрак. Мрак.
За маленькими сосенками проступали контуры нового городского района. В домах еще светились окна, хотя, наверное, далеко не все. И молодому человеку почудилось, будто там обозначились два ряда зубов — желтых, редких, с пробелами. Окна лестничных пролетов как длинные, острые клыки, витрины магазинов — тупые и широкие коренные зубы. А из темного провала, между двух рядов, вероятно, шибало солоноватым тошнотворным мраком. И внезапно в вышине над домами ему померещились черные дыры — глубокие глазницы воображаемого желтозубого черепа и в них злой, все всасывающий в себя вакуум.
— Эта булава, удивительная индейская булава, что висит у вас на стене… — донесся до молодого человека вдруг заметно сникший голос Себастьяна, — могу я на нее взглянуть?
Молодой человек кивнул, продолжая смотреть в ночь.
— Она… ого, черт возьми! — какая тяжелая. Уж не золотая ли?.. Конечно, золотая! — воскликнул потрясенный Себастьян.
И молодой человек опять кивнул, ибо булава, которую мы не заметили при первом (разумеется, умозрительном), да и при втором визите в этот дом, в самом деле вполне могла быть золотой.
Открыв рот, Себастьян восхищался сувенирной, хотя притом весьма порядочной и увесистой булавой.
— А три камушка на ручке… это же настоящие брильянты… Меня не проведешь! Иначе эти чертовы ювелиры быстро вкрутят тебе баки. Особенно в том случае, ежели догадаются, что ты товарец где-то…
— …стибрил, — докончила за него дочь.
— Попала в точку! — подтвердил Себастьян, но, спохватившись, тут же добавил с упреком: — Что у тебя за выражения! — Вообще же несчастный отец заметно приободрился: для человека, имеющего такую золотую булавку, выложить сто или сто десять, а может, и сто пятнадцать монет, право, ничего не стоит. — Кхм… я нисколько не сомневаюсь, что мы прекрасно договоримся, — промолвил он мягко, многозначительно прищелкнув языком: — Паренек вы утонченный, что и говорить, да и со вкусом к тому же… Да, но вот не могу я понять, на кой черт вы лишили девицу привлекательности? Мне и самому ее шерстка нравилась. Конечно, в былые годы, когда я был в полной силе…
— Что?! — задохнулся молодой человек. — Не хотите ли вы сказать… — и он не докончил, столь ошеломляющая картина возникла в его воображении.
— Должны же дети уступать родительским прихотям. Как же иначе, государь мой хороший. К тому же бывает обоюдное влечение…
— Это правда? — обратился к Магдалине потрясенный молодой человек — искатель мировой гармонии, любитель музыки и птичек.
— А то нет. Себашка раньше-то жуть какой заводной был. Тот еще жеребец! Да и сейчас норовит полапать, хотя у самого не маячит…
Нечто вроде сдавленного стона исторгла грудь легко ранимого молодого человека. Он побледнел, и та самая жилка на лбу стала уже толщиною в палец.
— Инцест! Кровосмешение! Карается смертью… — бормотал он.
— Хе-хе-е… Нет состава преступления. Кто посмеет утверждать, что активной стороной выступал я, а не эта молодая дама с такой отныне гладенькой спинкой. Даже в Библии говорится о старом Лоте и двух дочерях, переспавших с ним. Так что…
— Булаву! — требовательно гаркнул молодой человек, белый, как мел.
— Прежде деньги! — не менее запальчиво грохнул в ответ Себастьян. — И доплату за молчание, так как… — Но тут фраза прервалась, и ей не суждено было возобновиться, ибо молодой человек — нам трудно поверить своим глазам! — взял, вернее, вырвал из рук гостя золотую булаву, с легким вздохом замахнулся, и в тот же миг кумпол Себастьяна лопнул с сухим треском, снова напугав и без того потревоженных птичек.
— Приговор приведен в исполнение, — спокойно молвил молодой человек и повесил булаву за маленькую петельку на старое место. — Потом я отвезу этого человека на свалку. А пока… — он ненадолго задумался. — Наверное, самое разумное перетащить его в большой холодильник на кухне. Он должен поместиться, если вытащить полочки. Ничего, запихнем, — хозяин проявил неожиданную деловитость.
— Заморозим Себашку, и баста! — пронзительно взвизгнула девица, в поведении которой, пожалуй, и впрямь обнаружились признаки размягчения мозга. Она запела звонким голосом, можно даже сказать, залилась серебристым колокольчиком и ткнула туфелькой своего посыпанного перхотью папашку.
Они запихнули труп в холодильник, большого труда это не составило — мужичишко был худенький, а вынимать из шкафа почти ничего не пришлось, разве немного хлеба и увесистый шматок свежей печенки, которую молодой человек, как он объяснил девушке, режет на кусочки для своих невесомых, но весьма прожорливых пернатых, а те обычно самым несносным образом прячут их, насаживая на специально предусмотренные проволочки. Про запас. Он признался, что сие не очень ему нравится, но ничего не поделаешь — у птичек этого вида глубоко укоренившиеся привычки, выработанные в процессе эволюции.
Магдалину не слишком интересовали вопросы, связанные с эволюционным процессом, ее занимало другое.
— А что… со мной теперь станет? — спросила она с несколько неожиданной логичностью, во всяком случае, явно недобирая на кандидата в дом умалишенных. — На что я буду жить? — Вместе с тем она подумала и о молодом человеке. — А вы? Вас ведь посадят в тюрьму, шпики Монока…
— Полицейские Моноцетти, — сурово поправил молодой человек и попросил не коверкать в его доме имя великого вождя.
— Ведь полицейские Моноцетти все вынюхают, — послушно договорила девушка. Затем, немного подумав, подсказала выход: — Вы должны сказать, что убили его при самообороне. Я могу подтвердить. А если потребуется, Граф тоже засвидетельствует…
— Предоставьте это мне! Я не намерен лгать. Наш кодекс предусматривает смертную казнь за некоторые нарушения закона, совершенные при особо отягчающих обстоятельствах. И отцу, который не смущается… собственную дочь… — молодой человек подыскивал слова.
— …поставить раком, — невинно улыбнувшись, помогла ему Магдалина.
— О небеса! — тяжело вздохнул молодой человек. — Право же, как вы, Магдалина, выражаетесь!
— Я придерживаюсь свободных взглядов! — сообщила девушка. — Я сочувствую движению, которое рекомендует все называть своими именами. Долой ложный стыд! Да здравствует простонародный язык! Фокс попули — фокс по полу! — лихо провозгласила она.
Молодому человеку показалось, что он уже где-то слышал эти лозунги. В том числе и "фокс по полу", то есть, конечно, "Vох рорuli — vох Dеi!", что означает: "Глас народа — глас Божий". Уж не Его ли Величество провозглашало их?
— Отец, насилующий собственную дочь, не достоин жить в нашем обществе. И я уверен, что он втихомолку презирал это общество.
— А вот об этом лучше не распространяться!.. Ну, о презрении к обществу. Себашка сам был на жалованье у людей Моно…цетти. Он даже был старшим стукачом в чине подполковника. Ведь мы жили не только на гонорары от моих гонорей.
— Вот как… — нахмурился молодой человек. — Значит, старший стукач… Ну, и это еще не велика шишка…