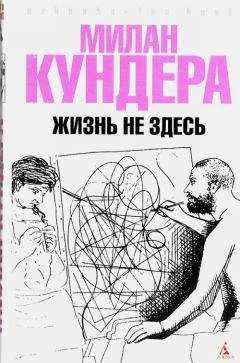Но когда разрисованную мамочку он положил на ковер и стал ее любить рядом с античной головой, прекрасной и холодной, она больше не выдержала и расплакалась в его объятиях, но он, верно, не понял смысла ее плача, ибо был убежден, что его собственная дикая страсть, обращенная в нескончаемое, буйное движение, не может вызывать в ответ ничего, кроме слез наслаждения и счастья.
Мамочка поняла, что художник не угадал причины ее слез, и перестала плакать. Но когда пришла домой, у нее на лестнице закружилась голова; она упала и расшибла колено. Испуганная бабушка отвела дочь в ее комнату, пощупала лоб и поставила под мышку градусник.
У мамочки был сильный жар. Мамочка получила нервное расстройство.
Несколькими днями позже чешские парашютисты, засланные из Англии, застрелили немецкого правителя чешских земель; было объявлено осадное положение, и на перекрестках появились плакаты с длинным перечнем казненных. Мамочка лежала в постели, и каждый день приходил врач и делал ей инъекции в зад. Как-то раз к ее постели подошел супруг, взял ее руку и долго смотрел ей в глаза; мамочка знала, что причину ее нервного потрясения он усматривает в ужасах Истории, и со стыдом осознала, что обманывает его, тогда как он добр к ней и в трудную минуту хочет быть ее другом.
К тому же служанка Магда, которая жила на вилле уже несколько лет и о которой бабушка любила говорить в духе прочной демократической традиции, что видит в ней скорее члена семьи, чем наемную силу, однажды пришла вся в слезах, так как ее жениха схватило гестапо. И вправду, вскоре его имя, написанное черными буквами по темно-красному фону объявления, появилось в перечне казненных, и Магда получила несколько дней отпуска, чтобы съездить к его родителям. По возвращении она рассказывала, что родителям жениха не отдали даже урны с прахом сына и что они уже никогда не узнают, где его останки. Она опять расплакалась и плакала чуть ли не каждый день. В основном плакала в своей комнатенке, и ее рыдания были приглушены стеной, но, случалось, она заливалась слезами и за обедом; с тех пор как ее постигло горе, семья сажала ее за общий стол (прежде она ела одна в кухне), и исключительность этой ежедневной полуденной любезности напоминала ей, что она в трауре и вызывает жалость: у нее краснели глаза, из-под век выкатывалась слеза и падала на кнедлики в соусе; Магда старалась скрыть слезы, но тем больше привлекала к себе внимание, и кто-то всякий раз произносил ободряющее слово, на что она отвечала громкими всхлипами.
Все это Яромил наблюдал, словно волнующий спектакль; он даже мечтал увидеть слезу в девичьем глазу и как девичий стыд попытается скрыть печаль, но как печаль в конце концов одолеет стыд и даст слезе выкатиться. Он впивался взглядом (потаенно, ибо чувствовал, что делает что-то недозволенное) в ее лицо, и его заливало какое-то теплое волнение и желание покрыть это лицо нежностью, гладить его и утешать. А оставаясь вечерами один, он, закутавшись в одеяло, рисовал себе ее голову с большими карими глазами и представлял, как ласкает ее и говорит не плачь, не плачь, не плачь, потому что не находил других слов, которые сумел бы ей сказать.
Примерно в то же время мамочка закончила свое неврологическое лечение (прошла домашний недельный курс сном) и снова начала ходить по квартире, делать покупки и заниматься хозяйством, хотя постоянно жаловалась на головную боль и сердцебиение. В один прекрасный день она села за столик и стала писать письмо. Едва написав первую фразу, тотчас поняла, что художник найдет ее сентиментальной и глупой, и испугалась его осуждения; а потом успокоилась. подумав, что это слова, на которые она не требует и не просит ответа, последние слова, обращенные к нему; эта мысль придала ей смелости, и потому она продолжала; с чувством облегчения (и удивительной строптивости) создавала фразы и, создавая их, будто и впрямь становилась самой собой, той, какой была до знакомства с художником. Она писала, что любила его и что никогда не забудет чудесных дней, прожитых с ним, но что настала пора сказать ему правду: она другая, совершенно другая, чем он думает, на самом деле она обыкновенная и старомодная женщина, которая боится, что однажды не сможет смотреть сыну в глаза.
Значит ли это, что она наконец отважилась сказать ему правду? Ах, вовсе нет. Она не написала ему, что любовное счастье, о котором говорила, было для нее лишь мучительным напряжением, она не написала ему, как стыдилась своего обезображенного живота, не написала, как рухнула и расшибла колено и целую неделю лечилась сном. Не написала ему, поскольку такая искренность была ей несвойственна, а она хотела снова стать самой собой, но быть самой собой значило быть неискренней; ведь напиши она ему искренне обо всем, это походило бы на то, как если бы она снова лежала перед ним обнаженная с морщинистым животом. Нет, она уже не хотела выставлять напоказ ни тело свое, ни душу, а хотела обезопасить себя целомудренностью, и потому пришлось быть неискренней и писать лишь о своем ребенке и святых обязанностях матери. В конце письма она уже и сама верила, что не ее живот и не напряженный бег за идеями художника вызвали у нее нервное потрясение, а ее великие материнские чувства взбунтовались против великой, но грешной любви.
И в эти минуты она видела себя не только бесконечно печальной, но и величественной, трагичной и стойкой; печаль, вызывавшая еще недавно лишь одну боль, теперь, описанная высокими словами, доставляла ей утешительное наслаждение; это была прекрасная печаль, и она, осиянная ее меланхолическим светом, казалась себе печально прекрасной.
Какие потрясающие совпадения! Яромил, который тогда же целыми днями наблюдал за плачущим глазом Магды, глубоко постиг красоту печали и весь погрузился в нее. Он снова пролистывал книгу, что дал ему художник, и без конца читал стихи Элюара, околдованный отдельными восхитительными строками: В тишине ее тела таился снежок цвета глаза; или: Вдали море омывающее твой глаз; или: Здравствуй печаль ты вписана в очи любимые мною. Элюар стал поэтом Магдиного тихого тела и ее глаз, омытых морем слез; всю свою жизнь Яромил видел заколдованной в единственной строке: Печаль прекрасный лик. Да, это была Магда: прекрасная ликом печаль.
Однажды вечером все ушли в театр, и он остался с Магдой на вилле один; он наизусть знал весь домашний распорядок и был уверен, что Магда, как обычно, будет купаться. Поскольку родители с бабушкой планировали посещение театра за неделю вперед, у него было время все подготовить; уже за несколько дней в двери ванной он размоченным хлебным мякишем легко закрепил в вертикальном положении клапан замочной скважины, затем вытащил ключ, закрывавший просвет в замке, и спрятал его; отсутствия ключа никто не заметил, ибо члены семьи не имели привычки запираться и пользовалась им одна Магда.
Дом утих и опустел, у Яромила сильно колотилось сердце. Он сидел наверху в своей комнате, положив перед собой книгу на тот случай, если кто-нибудь застигнет его врасплох и спросит, что он делает; но книгу он не читал, а все время прислушивался. Наконец раздались звуки воды, пробивавшейся по трубопроводу, и удары струи о дно ванны Яромил выключил на лестнице свет и, крадучись, стал спускаться: отверстие в замке было открытым, и он, приставив к нему глаз, увидел склоненную над ванной Магду, уже без платья, с обнаженной грудью, в одних трусиках. Страшно билось сердце, ибо он видел то, что никогда не видел, и понимал, что сейчас увидит еще больше, чему уже никто не сможет помешать. Магда выпрямилась, подошла к зеркалу (он видел ее в профиль), с минуту смотрела на себя, потом снова повернулась (он видел ее спереди) и направилась к ванне; остановилась, сняла трусики, отбросила их (он все еще видел ее спереди) и вошла в ванну.
И в ванне Яромил продолжал видеть ее сквозь свой просвет; но поскольку гладь воды достигала ее плеч, он снова видел лишь одно лицо; то самое знакомое, печальное лицо, и глаз, омытый морем слез, но вместе с тем это было и совсем другое лицо; к нему он должен был домыслить (сейчас, на будущее и навсегда) нагую грудь, живот, бедра, зад; это было лицо, осиянное наготой тела, будившее в нем нежность; но и эта нежность была иной: в ней раздавались учащенные удары его сердца.
А потом вдруг он заметил, что Магда смотрит прямо в его глаза. Она смотрела в замочную скважину и мягко (немного смущенно, но ласково) улыбалась. Он мгновенно отступил от двери. Видела она его или нет? Он много раз проверял и убедился, что с другой стороны глаз не должен быть виден. Но как объяснить взгляд и улыбку Магды? Или она смотрела в том направлении просто случайно и улыбалась только предположению, что Яромил может подглядывать? Но как бы то ни было, встреча с Магдиным взглядом так смутила его, что он больше не решался приблизиться к двери.