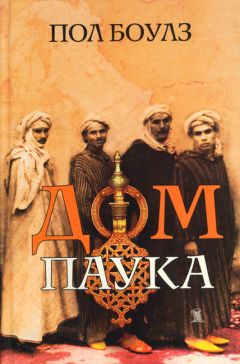— Отправиться туда с благословения Аллаха и умереть счастливым, — прошептал он с блаженной улыбкой на губах. Затем откинулся назад и, закрыв глаза, выдохнул: — Аллах!
— Но только не в этом году, — значительно произнес гончар.
— Может, через год удастся скопить денег, иншалла.
Гончар фыркнул. Потом, наклонившись вперед, шепнул на ухо Амару:
— Здесь можно. Никто тебя не слышит.
Амар не понял, но улыбнулся и оглядел маленький, тускло освещенный сад. Каким умиротворенным казалось здесь все: вечерний ветерок колыхал листочки винограда, вившегося возле лампочки, по желтой циновке скользили тени. На миг Амару удалось отогнать мысли о деньгах. Время от времени темная поверхность воды покрывалась рябью и раздавался всплеск, словно какая-то рыбешка выпрыгнула и снова скрылась. В минуты подобного умиротворения, говорил отец, человеку приоткрывается рай — так, чтобы он потом всей душой стремился к нему, терпеливо снося тяготы земного пути. Амар чувствовал себя как никогда уютно и счастливо. Скоро им принесут горячий мятный чай, и он попросил, чтобы в каждую чашку положили по веточке вербены. А когда у него появятся деньги, он присмотрит себе пару настоящих европейских ботинок и продаст свои еврейские сандалии…
— Нет, нет, только не в этом году, — решительно повторил гончар, и в глазах его неожиданно мелькнул злобный огонек. — Пусть это племя сгниет в аду.
Амар удивленно поглядел на него. Разумеется, речь могла идти только о французах, однако он не помнил, чтобы гончар хоть раз упоминал о них, пусть даже намеком. Не успел он подумать этого, как заметил, что гончар смотрит на него с растущим подозрением.
— Ты знаешь, кто такой Ибн Сауд[26]? — вдруг спросил он. — Приходилось слыхать?
— Конечно, — ответил Амар, неприятно уязвленный тоном своего собеседника. — Это султан Хеджаза[27].
— Huwa hada[28], — сказал гончар, — но вижу, ты маловато знаешь о том, что творится в мире. Протри глаза, парень. Великие дела совершаются ныне. У Ибн Сауда есть своя голова на плечах. В этом году ни один ходоки из Марокко не добрался до Мекки. Всем удавалось доехать только до Джидды, а затем приходилось поворачивать обратно.
— Вот бедняги, — ответил Амар, моментально проникшись состраданием к несчастным паломникам.
— Бедняги? — воскликнул гончар. — Ослы! Сидели бы себе дома. Разве это подходящий год, чтобы ехать в Мекку, когда это грязное отродье, которое они нам навязали, по-прежнему сидит на троне султана[29]? Клянусь, будь моя воля, я бы приказал запереть двери всех мечетей в стране до тех пор, пока нам не вернут нашего султана. А если не захотят, сам знаешь, что будет.
И действительно, Амар знал. Гончар имел в виду джихад — поголовное истребление неверных. Он сидел молча, ошеломленный тем, что в гончаре вдруг проснулась такая кровожадность. И, уж конечно, он не мог не знать о том, что французы посадили в его стране на трон подставного монарха. Амару казалось, что об этом знает весь мир. Он осуждал это надругательство, как и все вокруг, но никогда всерьез о нем не задумывался. Замена Бен Арафа на Сиди Мохаммеда ничего не значила для Амара: он еще ни разу не встречал человека с твердыми политическими убеждениями. Сколько Амар себя помнил, отец его всегда полыхал гневом против неверных и злых дел, которые французы творят в Марокко, и это новое злодеяние — похищение султана, заключение его на острове посреди моря и подмена едва живым стариком, который был все равно что слепоглухонемой, — оказалось всего лишь последним пунктом в долгом перечне французских преступлений.
Однако теперь он впервые понял, что существуют люди, которые смотрят на происходящее отнюдь не мимоходом, для которых это не только потоки пустословия по поводу чего-то далекого и расплывчатого; он видел, как символическое возмущение становится личной обидой, неодобрение оборачивается гневом. Гончар сидел, впившись горящим взглядом в Амара, бледная тень лозы скользила по его морщинистому лбу. Из зарослей тростника на другом берегу протоки внезапно донесся печальный бессмысленный крик совы, и Амар мгновенно почуял присутствие в воздухе чего-то такого, что было там все время, но что он никогда не пытался распознать и объяснить. Это было в нем самом, и одновременно он был частью этого целого, как и сидящий напротив него человек; оно нашептывало им, что время быстротечно, что мир, в котором они живут, близится к концу, за которым зияет лишь бездонная тьма. Это было предупреждение о неизбежном поражении и гибели, и оно всегда было с ними и в них, такое же неосязаемое и одновременно реальное, как и окружавшая их ночь. Амар достал из кармана две помятых сигареты и протянул одну гончару
— Ах, мусульмане, мусульмане, — вздохнул он. — Кто знает, что их ждет?
— Кто знает? — повторил гончар, закуривая.
Кауаджи принес им чай, пили молча. Ветер усилился, неся с собой прохладные ароматы гор. Только после того, как они вышли на улицу и распрощались, Амар вспомнил, что забыл попросить у хозяина деньги. Он пожал плечами и отправился домой, где его ждали ужинать.
Молодая весна, набирая ход, приближалась к лету, ночной воздух стал суше, дни — длиннее, солнце поднималось выше. И наряду с бесчисленными мельчайшими приметами, возвещавшими о плавной смене времен года, в воздухе появилось еще что-то, неосязаемое и все же явственное. Быть может, не предупреди Амара гончар, он так и продолжал бы не обращать на это внимания, теперь же он просто не мог понять, как мог не замечать происходящего вокруг. Пожалуй, можно было сказать, что это было рассеяно в воздухе среди пылинок и вместе с ними въедалось в поры стен — настолько оно слилось со светом и дыханием огромного города, рассыпанного среди холмов. Оно чувствовалось и в удивленных глазах человека, которого хлопали по плечу на улице, и в молчании, воцарявшемся в кафе при появлении незнакомца, и во встревоженных взглядах, которыми молниеносно обменивались члены семьи, усевшиеся вечером за тахином и застывшие, позабыв о еде, когда раздавался неожиданный стук в дверь. Люди стали реже выходить из дому, вечерами извилистые улицы медины были пустынны, а по пятницам, когда тысячи людей в праздничных одеждах собирались в Дженан Эс-Себире — прежде мужчины ходили, держась за руки, или шумными группами бродили среди фонтанов и по переброшенным через протоки мосткам, а женщины рядами сидели на ступенях или на скамейках в специально отведенной им бамбуковой роще, — теперь можно было увидеть только несколько одиноко сгорбившихся, неряшливых и растрепанных курильщиков кифа, уставившихся перед собой бессмысленным взором, в то время как уличные сорванцы поднимали тучи пыли, пиная скатанный из связанных бечевкой тряпок футбольный мяч.
Странно было наблюдать за тем, как город медленно увядает, чахнет, подобно обреченному растению. Каждый день казалось, что дальше так продолжаться не может, что отклонение от нормальной жизни достигло максимальной точки, что вот-вот должен начаться новый расцвет, но каждый день люди с изумлением замечали, что поворота к лучшему не предвидится.
Само собой разумеется, они ожидали возвращения своего султана и в большинстве своем верили политической партии, которая поклялась вернуть его на трон. К тому же интриги и таинственность никогда не пугали их: жители Феса славились как самые умные и самые хитрые мусульмане в Марокко. Но затевать интриги в традиционном вкусе было одно, а оказаться в западне между дьявольски жестокой французской тайной колониальной полицией и безжалостным Истиклалом — нечто совсем другое. Они не привыкли жить в столь напряженной ambiance[30] подозрительности и страха, которую их политики, учитывая сложившееся положение дел, навязывали им как естественную и обыденную.
Постепенно ткань жизни становилась все более зловещей. Все могло в любую минуту оказаться не тем, за что себя выдает, все казалось подозрительным — особенно все хорошее, приятное. Если человек улыбнулся, будь с ним начеку: наверняка чкам, французский осведомитель. Если кто-нибудь появлялся на улице с удом[31] в руках, это означало неуважение к низложенному султану. Если человек прилюдно закуривал сигарету, он явно способствовал укреплению французского владычества и рисковал быть избитым или получить нож в спину в каком-нибудь темном углу. Тысячи учащихся медресе Каруин и колледжа Мулая Идрисса дошли даже до того, что объявили национальный траур на неограниченный срок, и ходили по улицам, как тени, обмениваясь при встрече едва слышными приветствиями.
Амару было нелегко принять все эти неожиданные перемены. Почему на рыночной площади в Сиди Али бу Ралеме, через которую он любил проходить, возвращаясь домой с работы, не слышна больше барабанная дробь и звуки дудок? Он прекрасно понимал, что французов необходимо вышвырнуть из страны, но ему представлялось, что это должно произойти торжественно: тысячи всадников, сверкая на солнце лезвиями сабель и призывая на помощь в святом деле Аллаха, скачут по бульвару Мулая Юсуфа к французскому Виль Нувель. Султан получит военную поддержку Германии или Америки и вновь взойдет победителем на свой трон в Рабате. Трудно было уловить связь между блистательной войной за освобождение и всеми этими перешептываниями и нахмуренными лицами. Долгое время он размышлял, стоит ли обсудить свои сомнения с гончаром. Теперь он очень неплохо зарабатывал и был в прекрасных отношениях со своим наставником. С той самой ночи, несколько недель назад, когда они сидели в кафе, Амар не пытался идти на дальнейшее сближение, отчасти потому, что не был уверен, действительно ли ему нравится Саид. Кроме того, ему казалось, что во всем дурном, что происходит в городе, есть вина и его учителя, и не мог удержаться от чувства, что если бы не познакомился с ним, его жизнь сейчас была бы иной.