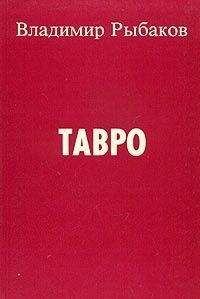Мальцев взглянул на парня и подумал: «Козел, открыл бараньи буркалы».
Кто-то женским голосом ответил:
— …А как же…
— А трудовая книжка у него есть?
— Нет… как же…
— А бастовать он имеет право?
— …А как же…
— А угрожать забастовкой?
— …А как же… Если он имеет право бастовать, то угрожать ею и подавно может. Странный вопрос.
Бешенство вышибло у Мальцева желание выпить:
— Дубье! Недоумки! Вы что, думаете, что раз свобода вам дана от рождения, то это вам дает право ее презирать? Раз не бьют по затылку, то и оглядываться, значит, не надо! Так, что ли?! А сравнительным анализом кто будет заниматься? Пушкин? Вы ругаете то, о чем только мечтают европейцы на востоке. Ни прописки, ни трудовой книжки и право бастовать сколько влезет! (За зло сморщенным лбом Мальцева развернулся привычный вопросик: а может, врет этот человечек? Хотя, будет ли он врать, чтоб затем вранье свое ругать?)
Холодная мысль остудила бешенство. Мальцев опомнился:
— Я делаю разницу между угрозой забастовки и самой забастовкой, потому что у нас пока никто не намеревается бастовать. Все бастуют только от отчаяния, стихийно. Поэтому для власти подготовка забастовки была бы страшнее самой стачки.
Парень как будто обиделся:
— Вы — эмигрант, значит антикоммунист. Ясно, что вы против всего советского. Вы не можете быть объективным.
К Мальцеву пришло то особенное спокойствие, которое приготовляет человека к бою:
— Сука, ты хочешь сказать, что я вру?
После этих слов нужно было бить. Или ждать удара. Так было всегда. Дикая матерщина смягчает оскорбление, уводит от реальности. Простые слова подчеркивают намерение оскорбить человека.
Мальцев поднялся, выпитое не мешало чувствовать неловкость положения. Захотелось, чтобы Таня остановила его.
— Да ладно вам… Давайте не будем ссориться. Он, прошептав «слава Богу», опустился на стул, вытер лоб.
Парень произнес:
— Ну что ты, мы и не думали, так, поспорили немного.
Мальцев окончательно обалдел… Так дернул шеей, что больно затрещали позвонки. Таня повторила:
— Давайте не будем…
И Святослав весь вечер был ей благодарен.
Мальцев больше ни с кем не разговаривал. Он ждал, будто стоял в очереди, водки и исчезновения этих взрослых детей, большинство которых были его ровесники. В это не верилось. Почти у всех была молочная кожа, пухлые губы, ямочки на щеках, на подбородке, чуть повыше локтя Ему не о чем было с ними говорить. Они были чужее чужих. Хотелось их назвать предателями. Без причин. Просто хотелось.
Люди ушли. Нашелся стакан вина, не водка. Мальцев втягивал его в себя по капле, глядел, как Таня аккуратно, споро и без мягкости занималась хозяйством.
— Понравились тебе мои друзья? Ты просто еще не привык. Ты не знаком еще с диссидентами? Конечно же, ты их не знаешь. Мне Толщева говорила.
Мальцев слушал ее вопросы и ответы и не хотел, чтобы в нем пробуждался холод к этой молодой женщине.
Он обнимал ее без уверенности получить нежность…
Лицо Тани было откинуто — из-под опущенных век глупо поблескивали белки. Мальцев чуть не сказал: «Щас начнет царапать». Отвалившись, Мальцев повторил слова, произнесенные одной женщиной в сибирском колхозе:
— Вкусен ночной хлеб.
Он видел в уже привычной темноте, как от этих слов у Тани вздрогнул живот… Мальцев поцеловал его.
В обоих просыпалось невыговариваемое, разбуженное на этот раз словом. Бывает, человек увидит ложку, из которой его кормила мать в детстве, или приснится ему колодец, что был у родного дома, и ходит, проснувшись, человек час, день с чем-то простым и вместе с тем небывалым внутри себя.
Таня охватила голову Мальцева:
— Дорогой, любимый, родной. Ты мой, мой.
Искренность сдирала со звуков их истасканность. То, на что перестал надеяться Мальцев, случилось — их тела стали текучими. Когда он раздвигал ее ноги дрожащим от нежности коленом, Тане хотелось забеременеть.
Утром Таня спросила:
— На что будешь жить?
Он взял ее руку. Твердым был только голос.
— Буду устраиваться на работу. Могу переводить, могу слесарем, варить умею. Таня удивилась:
— Что варить?
— Сталь, дуреха, — Мальцев рассмеялся. — У меня деньги есть, не боись.
— Сколько?
— Чего сколько?
— Денег сколько?
Голос Тани был деловитым. В глазах жил интерес. В интересе не было жадности.
Ему показалось, что нежность к этой женщине, похожей на свежий пенек, дрожала в нем давно, когда он жил, не думая о жизни, ощущал с удовольствием теплоту добра вокруг и не искал наименьшего зла.
— Восемьсот.
— Тебе не надолго хватит. Надо быстрее искать работу. А то снова попадешь под мост.
— А почему бы и нет?
Она махнула рукой:
— Ну, как хочешь.
Мальцеву стало зябко. Он увидел, что Таня смотрела на него, как на обреченного. Ласковости не разглядел… как будто немного жалости. Хотя… черт его знает. Было непонятно.
Но она обняла его, припала головой к груди, начала гладить щетину щек, и только много времени спустя дыхание стало все более зовущим.
Последующие дни удивляли Мальцева глупостью. Таня рано уходила на работу — водила советских инженеров по французским заводам. Он читал в это время «Архипелаг ГУЛаг», и его совершенно не забавляла мысль, что он давно все это знает: лагеря, пытки, голод, холод, смерть. Все это было известно, но все сидело неподвижно в памяти, будто и не нужно было этому знанию двигаться, куда-то идти, что-то искать и тем более находить. Правда, мысль охватывала отдельных людей с характерами и лицами, или многих людей, но бесплотных, — и к ним не приставали цифры.
Как-то Мальцев и несколько ребят с истфака, избежав практики, поехали на заработки. Деньга шла хорошая, и новый коровник, с крыши которого можно было не без удовольствия видеть Обь, строился быстро — за скорость и качество начальство платило, не скупясь. По вечерам пили любую гадость — лишь бы давала хмель. Старик, в доме которого они остановились, не был местным и к совхозу никакого отношения не имел. Он получал свою пенсию, копался в огороде. Люди звали его Коркой — десны его беззубого рта были способны раздавить самый твердый сухарь, но старик, заявляя, что он городской, подчеркнуто ел только мякиш, уничтожая при этом пальцами корку. Он перетирал и вновь перетирал ее, и злобливость его пальцев совсем не сходилась со спокойным от природы выражением лица и с его глазами цвета грязной голубой майки. За жилье Корка брал мало, от водки, пива или браги никогда не отказывался, всегда бывал словоохотливым, но ругал власть только тогда, когда выпивал. Он рассказывал о ему самому непонятном, и его пальцы упорно разрушали до пыли очередную корку хлеба.
— Не власть, а бардак. Вот, например, — вас тогда отец с матерью еще не сработали, когда у нас врагов народа было навалом. Меня тогда в ВОХРу послали, на Колыму. Дрянно там было, дрянно и сейчас, вы поверьте. Тогда дорогу там прокладывали, колымской трассой она теперь называется. Врагов народа туда нагнали видимо-невидимо… кишело ими. Я грамотный был и приказ понимал правильно. У нас ведь есть такие, что им прикажут, а они, суки, еще что-то думают. Такие не годятся… Старшиной я стал — потому знаю. Трудно было стране, не то что сейчас. Кругом были враги. Хлеб у нас они почему-то уничтожали, а мы — врагов народа. Они были саботажниками, их и заставляли вкалывать… пулю на них не тратили. Тогда вдоль будущей дороги делали лагеря, забивали бараки и ждали, пока дорога не подойдет. По плану каждый лагерь должен был сработать нужный начальству кусок трассы. Когда из лагеря на работу перла партия врагов народа, — их списывали с довольствия. Через несколько дней (не помню, сколько) на место шла спецкоманда и возвращалась с инвентарем — мертвецам он все равно не нужен — и телогрейками. А когда врага народа списывают с довольствия, то одежда и та самая обувь ему нужна только на чуть времени. Вот, и на работу отправлялась очередная партия. Так пустели лагеря, и так прокладывалась трасса. Время ведь было трудное, каждый и выполнял положенное. Враги были врагами. Все было ясно. Мы иногда даже кому-то и помогали — патрон тратили. Хоть против народа человек пошел, а все — жалко бывает. А потом власть заявила, что враги народа не были, оказывается, врагами народа, что, мол, ошибка вышла. Хороша ошибка! Что это за власть такая, что ошибается? Мы тогда правду говорю, ошалели. Некоторые думали, что нас самих в расход пустят, что на нас, маленьких, вину за ошибку свалят. Нет, дурною власть стала. Уничтоженный враг должен врагом и оставаться. Глядите, что нынче творится. Никакого порядка! Да и как все понимать? Сегодня враги, завтра не враги. Хорошо, я на пенсии. Но несправедливо с нами поступили. Мы порядок охраняли, приказы выполняли, трассу проложили, а власть нам в лицо плюнула — мол, не враги народа они были. А кто же они были, друзья что ли? Бардак, говорю вам, бардак!