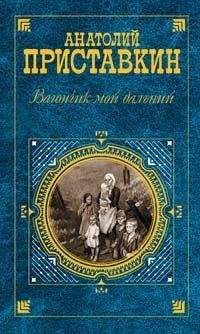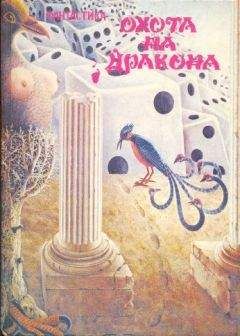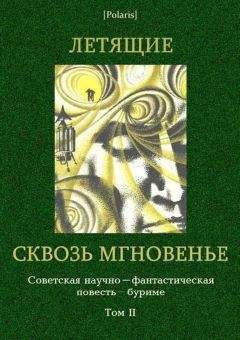— Но я вовсе не так посмотрел, — прервал я Костика.
— Откуда мне знать, как ты посмотрел? — возразил Костик.
— Не так, — упрямо повторил я. — Ладно. Чеши дальше.
— Дальше она тебе пишет, — сказал своим голосом Костик, — что недавно узнала, что будут нас в связи с возрастом распределять по трудовым лагерям, и их тогда разлучат с Шурочкой, ее сестрой. А этого ни она, ни Шурочка не перенесут. Они всегда и везде были только вместе. Этим и спаслись. Да и вообще, оставляя ее в вагоне, она беспокоится за ее судьбу. А за свою она волнуется меньше. Хотя понимает, что всех нас и тебя, Антоша, куда-то отправят. Скорей всего на шахты, а может, лес валить. Так удалось мне услышать. Но это лучше, чем прозябать в вагоне. Вот только без Шурочки я не смогу быть, я умру без нее, правда. Прошу прощения, что разоткровенничалась, но, если бы ты на меня так странно не посмотрел, я бы не стала тебе писать. И Костика бы не просила. А если хочешь, можешь мне ответить. Костик все слова твои принесет. Он вообще хороший…
— Это ты хороший? — поинтересовался я.
— Я передал, как она сказала, — чуть обидевшись, отвечал Костик. — Теперь, кажись, все.
— Кажись… А ты… правда, отнесешь, что скажу?
— Отнесу, — натянуто произнес он.
— Не перепутаешь?
Костик замолчал. Наверное, рассердился на мои слова.
Но, пока мы спорили, я придумал, что скажу Зое. Я скажу: «Зоя»… Нет, я скажу не так. Я скажу: «Зоенька»… Она же не поймет, что я пускаю девчачьи слюни… В письмах надо говорить не так, как вслух. Вот в жизни я бы не смог ей сказать: «Зоенька». А через Костика могу. И это будет по правде. Ведь я знаю, я чувствую, что ей плохо…
— Зоенька, — произнес я вслух, прямо в ухо Костика, и сам удивился, как это необычно прозвучало.
Несмотря на худобу, уши у Костика огромные, как два лопуха. Может, оттого он такой памятливый, что у него не уши, а звукоуловители. Сейчас я его ушей не видел, но чувствовал, как они прям зашевелились, улавливая мои слова.
— Зоенька… — повторил я уверенней, прислушиваясь к собственному голосу. — Вот ты написала, что ты поняла, что я тебя жалею, и просишь прощения, что ты разоткровенничалась. Но я рад, что ты все рассказала, и вовсе не зря, потому что я и сам не раз думал, как они с нами теперь разделаются, и понял, что будет нам плохо. И о Шурочке я тоже думал, зная, какие волки — штабисты, что нет у них ничего человеческого.
— Как? — спросил я Костика.
— Не знаю, — сознался он. — Хочешь, повторю, чтобы ты не подумал, что я забуду?
— Ну повтори.
Костик прижался губами к моему уху и начал говорить моим голосом, непонятно, как у него получалось. Запинаясь, он произнес:
— Зо-ень-ка… — И потом опять: — Зо-ень-ка…
Уж слишком было по-настоящему. Я даже расстроился. Чуть не накричал на Костика, хотя понимал: он-то не виноват, что я, оказывается, заикаюсь, мычу, тяну слова, как кота за хвост. Я тут же стал выговаривать, что вовсе не два раза сказал «Зоенька», а всего один раз.
— Нет, ты сказал два раза, — возразил Костик. Но не обиделся.
Понимал, что это от смущения. Да и не каждый день такие доверчивые письма пишут.
— Это не ей… Это тебе я повторил, — настаивал я.
— Как ты повторил, так я и запомнил, — миролюбиво сказал Костик. Тут же продолжил: — Вот ты написала, что я тебя жалею, и просишь прощения, что…
— Хватит, — прервал я. Мой голос показался мне каким-то фальшивым. — Послушай… Может, о жалости вычеркнуть?
— Могу и вычеркнуть, — сказал деловито Костик. — Давай дальше. Она ведь ждет…
— А у меня получается? Или… нет?
— Тебе бы закончить надо… — посоветовал Костик.
— Ну в конце скажи так… Я ее вовсе не жалею, просто она мне показалась такой красивой… Нет, «красивой» не надо. Необыкновенной…
Нет, не то. Напиши так… Я увидел на донышке зрачков такое…
— Что такое «такое»? — переспросил Костик. — Сказать, что увидел «такое»?
— Ну необычное… — поправил я. — У нее такие травяные глаза…
— Так и передать? Про траву? — осведомился Костик.
— Ты что?! — чуть не взревел я. — Это я тебе так пишу… Да нет, тьфу, не пишу… Говорю…
— А мне не надо писать. Ты ей пиши, — резонно заметил Костик.
Я задумался. Пришлось сознаться, что я не знаю, что нужно еще написать, чтобы вышло складно… Я ведь никогда не писал таких писем.
— Тогда передам так, — решил Костик. — В травяных глазах ты увидел необычное…
— Нет, нет! — запротестовал я. — Про глаза не надо.
— Ну тогда напиши, как люди пишут… Они в конце пишут: «Жду ответа, как соловей лета!».
— А по-другому нельзя?
— По-другому тоже можно, — деловито предложил Костик. — Вот так: «Лети с приветом, вернись с ответом!».
— А как лучше?
— Про соловья красивше, — сказал он, подумав.
— Ну давай про соловья. А когда ты отнесешь письмо? — спросил я, вдруг оробев.
— Сейчас и отнесу.
Мне показалось, отвечал он излишне легкомысленно.
— Сейчас? Почему сейчас? — встревожился я.
— А когда?
— Не знаю… — Я и вправду чего-то испугался. — Может, она уже спит?
— Она ждет! — изрек он и уполз в темноту.
На другой день и на следующий Зоя не отвечала. Несколько раз я прошмыгивал мимо, стараясь попасться ей на глаза, зацепиться взглядом. А она преспокойненько посиживала рядышком с теть-Дуней, переговариваясь и щурясь на ласковое солнышко, и по сторонам не смотрела. А рядом, как всегда, ее Шурочка. Со стороны два золотых одуванчика на зеленом поле. Да и Костя вел себя странно: бродил в стороне, изображал полную несознанку. А когда я указал ему на его уши-лопухи: мол, чего они у тебя не фурычат? — он лишь помотал головой, вздергивая острые плечи, что означало: я-то что, это не я молчу, а кто молчит, ты и сам знаешь.
Между тем вернулись штабные. Из их разговоров можно было понять, что дела наши с прокормом — хуже некуда. Раз-другой доставили ведро жмыха и ведро гнилой картошки, да еще бидон обрата, белой жижицы, в которой и заварили жмых, и назвали это супом. Суп рататуй, по краям вода, в середине х… Два дня хлебали, но в животе не прибавлялось.
Кто-то пропел:
— Ешь вода, пей вода, срать не будешь никогда!
Теть-Дуня посоветовала подпитываться травкой. Она показала, какую надо рвать: листики и корешки от одуванчиков, стволики от конского щавеля, стебель лопуха, подорожник, что-то еще. Но много ли этого добра растет в нашем загоне?.. Все общипали и с жадностью глядели за колючку, где на воле зеленели лопухи и даже щавель.
Но тут нас с Шабаном погнали на ночь в штабной вагон. Шла очередная гульба. Пока девок лапали, нам дважды бросили со стола по куску хлеба. Надо было поймать этот кусок слету, по-собачьи, с пола поднимать не разрешалось.
Краем глаза углядел, как Зоя, сидящая на коленях у Леши Белого, сунула незаметно горбушку за пазуху. Для Шурочки, а может, и для других девочек. Раньше она продукт со стола не крала.
А потом загремел патефон, мне всучили мою партнершу. Валяй, топай, школяр! Делай, чтоб красивше было!
Веселья час и час разлуки
Хочу делить с тобой всегда,
Давай пожмем друг другу руки —
И в дальний путь на долгие года…
— Где же я ее видел? — Волосатик рассказывал дружкам новый анекдот. — Где же я ее видел? В кине? Не-е, не в кине… В метре?.. Не-е, не в метре… А-а! Вспомнил! На ме-не!
Заблеяли, развеселились, стали пить. Отвлеклись, чуток полегчало. Можно не изображать танцора, а просто механически двигать ногами, как делают Шабан с Валькой. Да и моя партнерша тоже. Что она есть, что ее нет. Один холод от нее.
Руки у Зои, как всегда, ледяные, а в глаза я старался не смотреть, боялся увидеть тот же лед. И еще хуже: адский огонек ненависти на донышке зрачка. Да уж точно, с такими руками других глаз быть и не могло. И вообще это была не та Зоя, которая посылала письмо через Костика и прикасалась ко мне теплыми пальцами там, на лужайке. Они были похожи, как манекен похож на живого человека.
Мы медленно кружились на крошечном пятачке вагона под пристальным взглядом штабистов. Но смотрел, кажется, Леша Белый, который, и набухавшись, не терял бдительности. Голубой глаз у него, второй он почему-то прикрывал ладонью, был насторожен и трезв, в то время как тело постепенно оседало под воздействием выпитого.
Синий заорал на мотив пластинки:
Андрей ходил к своей Наташе…
Андрей Наташу полюбил…
Но, как узнал, что будет он папа-шей,
Наш юноша не-мно-го загрустил…
— Ну и ч-о-о? — вопрошал Волосатик. — Наше дело — не рожать, всунул-вынул… и бежать!
Синий же продолжал петь. По песне выходило, что сынок подрос, а папаша явился тогда домой, чтобы за счет повзрослевшего сынка нахлебничать. Но сынок вытурил его за дверь со словами: наденьте, папа, скорее шляпу — и в дальний путь на долгие года…