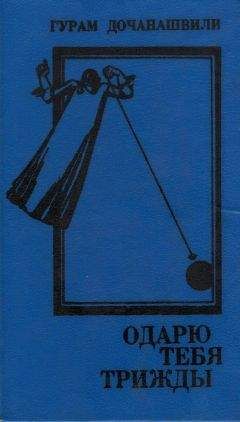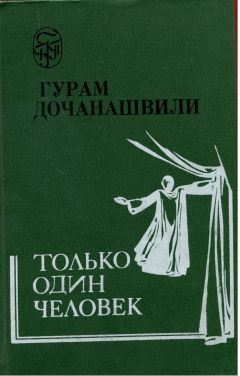Тут, на высоком утесе, близ дороги, ведшей к Коринфу, большой разбойник Скирон, опустившись на одно колено и согнувшись дугой, как широкий лук, доил козу, и мышцы на его обнаженном по пояс теле бугрились валунами.
Отсюда, с высокой кручи, где-то очень далеко внизу виделось море, а над головой полыхали синевой небеса, и что из них было более синим... На серебристой скале по-худому знаменитый разбойник неуклюже справлял женскую работу, но что ему еще оставалось: он тоже был человек, и ему нужна была пища. А последние три дня выдались плохие — на дороге не показалось ни путника. Из страха перед Скироном все предпочитали держать путь морем.
Наконец он выпрямился, расправил плечи.
Это был истый элладец — рослый, точеный, мускулистый; посаженную на высокой шее голову обрамляли отливающие желтизной густые, кудрявящиеся золотыми кольцами волосы, а глаза, глаза у него были не просто эллинские, но еще более выразительные, более лучистые, проницательные и живые, и более голубые... нет, голубое там было синим...
Голодный, стосковавшийся по хлебу, он смотрел на дорогу. Но не было видно ни живой души. Не видно было и той птицы, извещавшей его о приближении путников.
Скирон посмотрел в сторону своего прибежища, — а не уйти ли туда, напившись молока?
На соседней скале располагались рядом две пещеры с арочными входами, словно две ноздри, через которые дышала эта угрюмая каменная твердь. В одной из них Скирон отдыхал, а в другую загонял по вечерам свою малочисленную живность. Но иногда, после отдыха или в приливе особого возбуждения, он, затаив дыхание, углублялся в чрево скалы, туда, где кончалась разделявшая пещеры глухая стена; там, в середке, таилась вымытая водой влажная полость, круто поднимавшаяся узкой трубой вверх меж ноздрей скалы; цепляясь за выступы и ломая загрубевшие ногти, Скирон ползком взбирался вверх и, ни зги не видя в этой кромешной тьме, нащупывал осклизлую твердь уж и вовсе слепыми ступнями; так, побуждаемый непонятной страстью, с мукой продвигался он все выше и выше — туда, где, он знал, имелась небольшая ямина. Он умащивался там, согнувшись в три погибели, и сидел так, в насыщенной сыростью мгле, весь окутанный какой-то, вероятно белой, липкой, створоженной мякотью, чем-то подобной мозгу суровой скалы; притихший, весь скрюченный в этом темном лоне, как младенец в материнской утробе, он словно вынашиваемый мозгом скалы зародыш, напитывался здесь необычными мыслями и представлениями.
Толкователь полета птиц, Скирон, вглядывался в небо, но того журавля, что бывал совсем одним здесь, на земле, — с плавно очерченной линией шеи и туловища, но с острым клювом и некрасивыми ногами, хотя и выступающими легко и горделиво, — и совсем другим там, в небесной сини, где он превращался в сплошной длинный, пронизывающий клюв, стрелой рассекающий высокий воздух, — того журавля пока нигде не было видно, и стосковавшийся по хлебу Скирон обхватил ладонями горшок с молоком, распрямившись, поднес его ко рту и стал пить все еще пенящееся молоко; здесь, вне пещеры, в который раз уже заново народившись на свет, он вынужден был время от времени утолять голод алчущей своей утробы хлебом и молоком. Но где там хлеб — он уже вон сколько времени и вкуса его не пробовал...
Он пил, пил и вдруг внезапно вздрогнул, омочив подбородок молоком; быстро опустил руки с горшком, снова вскинул голову, — ему послышалось долгожданное курлыканье, — даже не почувствовав, как белая извивающаяся струйка скользнула вниз до груди, и стал следить жадным взором за верным своим вестником; тот, вихрем пролетев в небе, сообщил поначалу: «Грядут, грядуут!»
Потом сделал круг над головой Скирона, одарив его еще большей надеждой, снова пролетел своим особым манером: «Грядут, близятся!!!» — и скрылся, растаяв в небе.
Скирон, на секунду пригнувшись, поставил на землю горшок, схватил своей многоопытной рукой совсем другую вещь — валявшийся там же короткий, острый меч и, снова выпрямившись, весь собрался-собрался. В тот же миг очень далеко внизу, у подошвы головокружительной кручи, в море неуклюже закопошилась огромная черепаха, — ей, знать, тоже что-то примерещилось; высунув змеиную голову, она с трудом выпростала все четыреуродливо раскоряченные лапы и повела тупым взглядом вверх, к далекой вершине утеса. Со стороны могло показаться, что шевелилась она нехотя, словно бы через силу, но кому ведомо каким огнем жгло ее нутро — ей уж так давно не перепадало человечины, и она так по ней стосковалась.
На дороге показался юный путник, но шел он совсем один.
Но ведь «грядут», дескать?! — с досадой подумал Скирон и, чуть расслабившись, все же подозрительно пригляделся к повороту, — может, отстали... Эх ты... никого! А Скирон так жаждал схватки, у него аж все тело раззуделось. У начинающего путь юноши виднелся под накидкой перевешенный через плечо и под мышку короткий меч, а за спиною болталась котомка. Он шел себе, хеех; не зная — не ведая, что за опасный хищник сторожит его впереди.
Солнце, великий Гелиос, стояло высоко.
К ногам юноши с грохотом рухнула глыба. Но он — слепой был или что, а, может, и глухой в придачу — даже не дрогнул; нет, верно, глаза ему застило солнцем: взглянув вверх, он прикрыл лицо ладонью.
Вверху, на гребне утеса, хмуро насупившись, стоял верзила-разбойник с мечом в руке, весь насыщенный холодной яростью. Один вид его наводил ужас. Он, конечно, и заговорил по-разбойничьи:
— А ну, подымайся сюда!
Путник мельком глянул на него и зашагал дальше, обойдя глыбу стороной.
«Никак глухой!» — со злостью подумал Скирон и снова сбросил вниз, прямо перед путником, совсем уж грозящую расплющить глыбу, гаркнув при этом во всю глотку:
— Тащись наверх, говорю!
Но путник даже не поднял глаз; и, уязвленный в самое сердце собственным бессилием, пылающий гневом разбойник двинулся вниз по тропке, обогнул скальный выступ и лицом к лицу предстал перед путником.
Путник порывисто выставил клинок, но Скирон только чуть поддал по нем снизу мечом, и через некоторое время очень далеко внизу чудовищно огромная черепаха тупо покосилась на какую-то, поблескивающую даже со дна, совсем ни к чему не пригодную вещь. Будь на ее уродливой морде губы, они непременно бы уродливо покривились.
А где-то далеко наверху разбойник со злобной ухмылкой смерил взглядом обезоруженного наглеца и тут же приступил к своему разбойничьему делу:
— Что в котомке?
— Не твоя забота.
Что то дрогнуло в сердце Скирона, и он теперь совсем другими глазами посмотрел на юношу, но, сохраняя все же показную свирепость, обхватил его поперек, сунул вместе с котомкой под мышку и, как тот ни отбрыкивался, медленно зашагал к пещере, высеченной в скале, с которой вот-вот можно было сорваться в пропасть. Будто бы и вовсе позабыв о своей живой ноше, он, однако, перед одним опасным выступом разок пристукнул юношу по голове и, оцепеневшего, осторожно перевалил к цели, а следом перебрался и сам. Там, на вершине, он поставил путника у края обрыва и, усевшись в скальном кресле, спросил его:
— Жизнь любишь?
— Да.
Наконец-то ему ответили.
Скирон насупился:
—Тогда глянь вниз.
И что же там виднелось?! Врагу не пожелаешь... Даже камень и тот бы истерся о воздух в пути, не долетев до моря.
— Слушай, — сказал Скирон, обернувшись к юноше лицом, — если тебе хочется жить, то сперва вымой мне ноги, а там иди, куда вздумается.
Путник и не шелохнулся.
— Не вымоешь?
— Нет.
— Почему...
Глаза юноши сузились от жгучей обиды, а рука с кувшином задрожала — не от страха, от гнева.
— Почему?.. — повторил свой вопрос Скирон.
И путник, горделиво поведя головой, ответил:
— Я — элладец.
— Что? Таких ли элладцев я шарахал отсюда, — вытянулся в своем кресле Скирон и, прислонившись к скале затылком, протянул вперед ногу, — давай приступай... — И вдруг резко отпрянул в сторону.
Грозный и непреклонный, большой разбойник был ловок и быстр — о место, где только что было его лицо, вдребезги разбился родосский кувшин.
Скирон легко поднялся с места и сказал:
— Я не могу жертвовать таким, как ты. Прошу, пойдем со мной.
И перелез за выступ скалы.
Прежде чем последовать за ним, юноша снова украдкой глянул вниз.
«В чемн тамн, интересномм, ндело...» — подумалось черепахе.
Скирон сразу прошел вперед, и только теперь поддавшийся страху юноша, глядя на сплошь мокрую спину этого весьма странного разбойника, почувствовал себя очень не в своей тарелке.
Но Солнце, великий Гелиос, стояло высоко, распростерев свои жгучие пальцы по небу и по земле, так что, прежде чем попасть в свою пещеру, великий разбойник просох; бронзовоизваянный, он сразу же по входе в пещеру, из уважения к гостю, переоделся в белый хитон и набросил на плечи тяжелый пурпурный плащ, после чего вынес низенький столик и, жестом пригласив натерпевшегося страху гостя садиться, не спеша подал глиняные чаши, разбавленное вино, но и свежее молоко тоже; мед, кружок сыра, вяленую козлятину, только что вот хлеба у него не было.