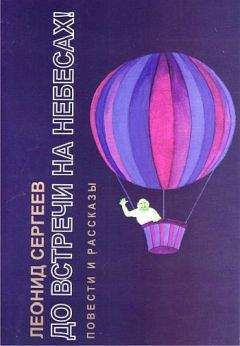…Но что ж так солнце нестерпимо палит! Повисло надо мной и плавится, и никак не вырваться из этого огнедышащего марева. А духота-то! Воздух вязкий — меня точно укутали одеялом. И гроб раскалился как сковорода. И от листвы, и от асфальта бьет жаром. А эти черти дружки оставили меня киснуть на солнцепеке! Не догадались, бестолочи, в тенек драндулет поставить… Но вон, вроде, идут. Шмыгают носами, покрякивают, угощают друг друга сигаретами. Их уже пошатывает, по стакану засадили, не меньше, я-то их знаю.
Ну вот, поехали дальше. Все так же за машиной маячит пьяная компания, плетутся собаки; прохожие останавливаются, глазеют на процессию. Еще бы! Такое не каждый день увидишь. Развалюха грузовик, гроб с каким-то жмуриком, за ним припечаленные забулдыги — ковыляют, отдуваясь, от них валит не пар, а дым; они то и дело спотыкаются, разморенные жарой и водкой…
Друзья мои! Друзья мои! Друзья! Я смотрю на вас — старые черти, морщинистые, беззубые — отборная обойма, хорошие товарищи мои. Собственно все, о чем я сейчас говорю, это для вас, это прощание с вами. Другим-то моя смерть до лампочки, а с вами я был в одной упряжке, и мы сверстники — кому, как не вам, понять меня, ведь нас связывают не один десяток лет. И сколько всего было! В любое время дня и ночи, без всяких звонков, мы заваливались друг к другу — так можно входить только в дом самых близких — и, не поморщившись, доставали пузырек, варганили закуску… Вспомните, черти, наши прекрасные разговоры! И простите меня, если что было не так… И простите за эту бессвязную исповедь, мое последнее занудство… Зато сегодня у вас хороший повод набраться как следует… Жаль, что последние годы мы редко собирались. Семьи, дети, внуки, работа, проклятые будничные дела и болезни забирали все время, и уж некогда было нам повеселиться, как когда-то. И сегодня-то вы встретились из-за меня. А когда еще соберетесь, кто знает! Может, только — когда повезут одного из вас вслед за мной. Так и разбросает нас всех по разным кладбищам, разным могилам.
Ну, слава Богу, потянул ветерок; кажется, тучи находят. Сухая пыль оседает мне на лицо. Мы подъезжаем к Кольцевой дороге — там, на развилке, должна быть забегаловка; мои дружки, само собой, убыстряют шаг.
…Я вспоминаю метро «Водный стадион» и маленькую квартиру на четвертом этаже; самого дома не вижу — один балкон в воздухе, и на нем мать; улыбается, машет мне рукой; рядом наш пес Челкаш — растянул пасть, вертит хвостом.
— Ой, Лесик! — восклицает мать, встречая меня.
Она наливает суп, расспрашивает о семье, работе, находит простые выходы из моих запутанностей, приободряет:
— У тебя все получится, вот увидишь!
А о себе только одно:
— У меня все хорошо.
Особенностью матери была ее заражающая искренность, неиссякаемый оптимизм, способность к выживанию в любых условиях, к пониманию других и к бескорыстному добру. Скольким людям она помогла — и не счесть! Даже совершенно незнакомым людям. Ее щедрость и милосердие подчеркивали все. Спросите моих друзей — они подтвердят, они-то прекрасно ее помнят. О жертвенности матери к нам, детям, и не говорю — даже во сне она боролась со страхом за наши судьбы.
С детства мать приучала нас к спорту: плаванию, волейболу и лыжам; несмотря на постоянную бытовую неустроенность и нужду, водила нас в театр и цирк, и всячески поддерживала наши увлечения рисованием и музыкой — именно она открыла нам великие произведения искусства.
Когда мать входила в комнату, казалось, вместе с ней врывался сквозняк. Непоседливая, взбалмошная, противоречивая, она всех заражала своей энергией и даже в самых безнадежных ситуациях не вешала нос. Судьба обрушила на мать страшные удары, от которых любой мужик зашатается, а она выстояла, и улыбка, как символ несгибаемости, никогда не исчезала с ее лица. Многие завидовали ее оптимизму (и даже внешности), посмеивались над ее странностями, смелыми, необычными поступками; некоторые называли ее «чокнутой», «полоумной»; кое-кто попросту издевался над ней… Да что там! — у нас ведь всегда травили тех, кто отстаивал свое «я». Но мать выстояла, и ее пример поддерживал меня в трудные минуты; она вселила в меня, быть может, самое ценное — жизнестойкость, умение выжимать максимум из своего положения.
После самоубийства отца улыбка матери потускнела, после гибели моей «заколдованной» сестры (она решила «полетать» и бросилась вниз с нашей лоджии на Кронштадтском бульваре) — стала смутной, усталой. К семидесяти годам, после инсультов, когда мать часто заговаривалась, гримасы на ее лице лишь отдаленно напоминали прежнюю лучезарность, но ничто не сломило ее дух — она и умерла с улыбкой.
Яснее ясного — чтобы иметь свободу духа, надо быть личностью… Мать всего добилась самостоятельно, без всякой поддержки; она — единственная женщина, кто в нашем захолустье изучил стенографию и машинопись, и, несмотря на множество преград, вернулась на родину, добилась прописки, а позднее и квартиры. Она никогда ни перед кем не унижалась и всю жизнь отстаивала справедливость, а когда ей было плоховато, вспоминала светлые минуты жизни — их было немного, но все-таки они были. В общем, такие сумасшедшие, как мать (а у нее, действительно, иногда бывали нервные срывы и даже сдвиги разума, и однажды она недолго лежала в больнице), занимают в мире особое, возвышенное место. Я догадывался об этом еще при ее жизни, но окончательно понял, когда она умерла, когда с ее смертью и мне открылись ворота на Тот Свет.
Последние десять лет мы прожили вместе; те годы оказались самыми спокойными; наконец-то мы имели хорошую квартиру и все необходимое в быту; я неплохо зарабатывал, иллюстрируя книги, и, вместе с пенсией матери, нам хватало для «среднего уровня жизни», мы даже три раза ездили в Крым…
Пока мать была здорова, я не знал забот — наша квартира всегда сверкала чистотой, у нас всегда был хороший обед и ужин; ко всему, мать выгуливала Челкаша, перепечатывала мои рассказы. Потом все резко изменилось. Мать скрутили болезни, и мне всего досталось сполна. Бывало, придешь домой и не знаешь, за что браться. Приходилось одевать мать, менять ей простыни, выслушивать ее бред. Случалось, сдавали нервы, я запихивал мать в ее комнату, орал на нее, шлепал по рукам — приближал, негодяй, смерть больного, беззащитного человека. Все думал — у нее временное умопомрачение и силой взывал к разуму; не понимал, глупец, что есть непоправимые состояния, неизлечимые болезни (особый идиотизм — я просмотрел у матери инсульт). Сотню раз давал себе слово сдерживаться, но постоянно его нарушал.
— Хотя бы не делала того, чего нельзя делать, — ворчал себе под нос, но со стороны видел низость своих поступков.
Когда мать окончательно парализовало, до меня наконец дошло, что она уже не поправится, и я стал более-менее заботливой сиделкой: по несколько раз в день обмывал мать, менял белье, кормил из ложки, но и в те дни, когда одолевала усталость, бывало проявлял жесткое раздражение и говорил матери грубости.
Я вспоминаю, как подростком рисовал натюрморт — яблоки, груши… а потом сожрал все фрукты, и мать презрительно фыркнула:
— Тебе не стыдно? Даже не угостил сестру с братом! Эх ты!
Вспоминаю, как во время скитаний в Москве, писал матери злые письма, чтоб выбиралась из захолустья, пока вслед за сестрой не заболела и вся семья. Но что мать могла сделать, если отца не отпускали с оборонного завода? И позднее, уже в Ашукино и в Ховрино, я обвинял мать во всех наших бедах, не понимал, кретин, что всему виной была война. Бывало, мать не выдерживала:
— Господи! И в кого ты такой родился? Учти, первое, что я скажу женщине, которая отважится быть твоей женой, что она выходит замуж за чудовище.
Ей не пришлось это говорить — такой дуры не нашлось; вернее, нашлась и даже не одна, но больше двух лет со мной никто не протянул (в гражданском браке).
Помню, как ворчал, когда мать на последние деньги отвозила сестре в больницу фрукты и сладости:
— Нина может и подождать до получки, а мы еле наскребли деньги на хлеб.
Идиот! Не понимал, что для сестры встреча с матерью — единственная радость, а без фруктов ей просто не выжить.
Друзья помогли мне похоронить мать, но во время поминок у нас, уставших, произошел срыв — мы развеселились сверх всякой меры. Все началось с того, что появился мой ближайший друг Валерий Котельников — он только вернулся из командировки и приехал прямо с вокзала. После третьей-четвертой рюмки он сказал:
— Ольга Федоровна любила веселую музыку, — подошел к пианино и мы затянули любимые песни матери.
Дальше больше, кто-то сплясал, кто-то стал мериться силой… Это была разрядка после напряженного дня, но понятно, со стороны мы выглядели придурками. Борис Воробьев долго сидел насупившись, в конце концов его прорвало — он ударил кулаком по столу.
— Вы что, совсем спятили?! Человек умер, а они топают, гогочут!