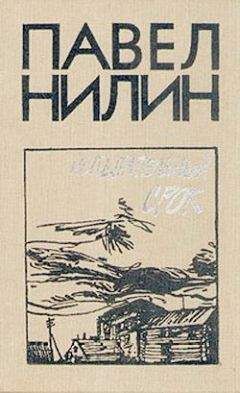— Извините, — говорит, — если можете, Николай Степаныч, но я, говорит, — не мог не уступить дамскому капризу. Такая, — говорит, получилась у нас эмоция...
И тут же за занавеской, представьте себе, — кроватка Эльвиры.
Ну что бы вы в таком случае сделали?
А я снял новую дареную куртку, надел старый пиджак, проверил, в нем ли мои шоферские права, сказал: «Счастливо вам всем оставаться», — и ушел, в чем был.
По возвращении из Москвы я, конечно, поселился уже у матери и сразу заявил о разводе.
В коридоре народного суда я издали увидел Танюшку и не узнал. Так изменилась она за какие-нибудь несколько недель — исхудала, пожелтела как-то. Но, заметив меня, опять просияла вся и пошла ко мне, этак весело протянув вперед руки. Будто опять хотела положить их мне на плечи и, по привычке своей, до милой духоты сдавить мне горло, говоря:
— Ну, иди, ну, иди, ну, иди ко мне.
Ничего этого она, конечно, теперь не говорила. Только спросила:
— Отчего, Коля, ты-то как будто веселый? Тебе правда весело? Или ты просто гордишься собой?.. Не гордись, Коленька, — тут же как посоветовала она. — И не сердись. Не расстраивай свою нервную систему. Ну что же теперь делать, если так получилось жестоко?.. Много горя я тебе, наверно, причинила? Но все ведь не со зла, наверно. Наверно, не со зла. И хотя я, наверно, кругом виновата перед тобой, но имей в виду, я любила все время только тебя одного. И никого другого, наверно, уж никогда не полюблю. Наверно, никогда...
— Для чего ты все время говоришь одно сорочье слово — наверно? — только и спросил я ее. Хотя хотелось мне спросить другое — для чего же она ночью позвала к себе этого крашеного козла Костюкова, что у нее за интерес, кроме его гитары, был в нем? И как надо понимать это слово — эмоция? Но ничего больше я не спросил, потому что боялся, что не смогу сдержать себя и рассвирепею так, что начну ее душить тут же, в коридоре, или, напротив, вдруг заплачу навзрыд, как женщина.
И она вдруг смахнула слезу.
— Наверно? — переспросила она. И, смахнув слезу, опять просияла так, как умела делать только она и больше никто на свете. — Тебе удивительно, Коленька, что я говорю — наверно? А я так говорю, оттого что не уверена. Я многое еще не совсем понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе. А врать, как другие, даже самой себе не хочу. Уверена я только, что с сегодняшнего дня ты уже не будешь нужен мне. И алименты твои, не волнуйся, не нужны. Ни мне, ни Эльвире. Эльвиру я уж как-нибудь сама подниму и поставлю на ноги.
— Или кто-нибудь тебе поможет из твоих друзей, — не стерпел я сказать. — Мало ли разных на твое удовольствие дядей Шуриков, Потаповых, Костюковых...
— Не сердись, Коленька. Не расстраивай себя, — опять сказала она. — И Костюкова не затрагивай. Все это ни тебе, ни мне не понять. Он человек необыкновенный...
— Подумаешь, — сказал я. — Гитарист плешивый, да я бы...
Но в это время зазвонил звонок. Это звали всех в судебный зал.
Я зашел туда и первый сел на первую перед судейским столом скамью, поскольку во всем теперь была моя инициатива. Малость погодя и Танюшка присела рядом со мной.
А судьи еще не выходили.
— Вот и разведут нас сейчас с тобой в разные стороны. И, наверно, уж навсегда. — Это сказала она, чуть наклонившись ко мне.
— Так будет лучше всего. — Это сказал я.
— И все-таки не могу я понять, весело сейчас тебе или ты только напускаешь на себя? — опять заговорила она, помолчав. — Мне-то хорошо понятно, что такого мужа, каким был ты еще недавно для меня, я уже не встречу никогда. Но ведь и ты, Коленька, поимей в виду, бабы такой, как я, беспутной, но честной и чистенькой, не сыщешь тоже. Никогда не сыщешь, хоть и станешь тосковать...
— Это ты-то честная и чистенькая? — взглянул я на нее. И весь было затрясся от ярости.
— А ты еще не понимаешь это? — будто удивилась она. — До сих пор не понимаешь? Ну ничего, потом, может, когда-нибудь поймешь. Желаю тебе...
И отошла, как-то особо аккуратно подобрав юбку, пересела на другую скамью.
После суда я еще хотел заговорить с ней, договориться насчет Эльвиры. Но она уже, как глухонемая, смотрела на меня, и глаза ее, большие, светлые, будто потухли.
В тот же день к вечеру я зашел на работу к Манюне, где сидел этот вечный ее жених Журченко. И он с ходу начал хвалить меня, что я развелся.
— Ну вот, мол, и правильно. Надо, мол, когда-то было разрубить этот узел. Я даже, — говорит, — удивлялся и раньше, что ты такой видный мужчина терпел такой позор с такой женщиной. Не такая, — он говорит, — теперь эпоха, чтобы нам, мужчинам, унижаться перед женщинами...
А уж какой он сам мужчина — это и выразить невозможно. Будто кожаный мешок, набитый салом. Слушать его мне было противно. И я даже хотел ему тогда кое-что сказать в том смысле, что это, мол, не ваше дело. Но Манюня остерегла меня глазами: воздержись, мол, Николай. И повела меня немедленно в их служебный буфет на шестом этаже. Ну, конечно, по тому она и повела, что боялась, что я обязательно что-то такое брякну ее жениху. Я же не люблю, когда меня учат или наставляют.
В буфете сидела очень приятная, гладко причесанная девушка. Мне даже понравилось, как она по-особенному деликатно пьет чай.
— Это Наташа, познакомьтесь, — сказала мне Манюня. И девушка эта Наташа привстала, чтобы поздороваться со мной.
Не помню теперь, как это получилось, что после буфета примерно через час я снова увидел ее уже на улице. Она шла к автобусу. Я почти что проводил ее до автобуса. Потом Манюня мне сказала:
— Ты понравился Наташе. Она говорит, что ты человек, должно быть, добрый и, видать, еще не нашедший счастья. И что ей было очень интересно, что ты рассказывал о Дальнем Востоке...
Вот на этой Наташе я и женился вскоре.
Все совпало будто очень хорошо. Дом, который строили лет пять, наконец достроили. И этот Журченко, Манюнин жених, все сделал так, что мне совершенно неожиданно дали в этом доме однокомнатную, маленькую, но со всеми, как положено теперь, удобствами квартирку.
Свадьбу я закатил такую, что все просто ахнули. Всю посуду и закуски брали, не поверите, из ресторана «Памир». Четыре новых «Волги"-такси везли нас с гостями сперва на регистрацию, потом на квартиру. Два гармониста и гитарист, может, не хуже того плешивого, — вот как сейчас их вижу, играли весь ужин, без перерыва, до двух часов ночи.
И, главное, я скажу, всех просто поразила красотой своей невеста моя. Все так и говорили:
— Ну, Колька Касаткин и выхватил себе жену. Молодая. Образованная. Учительница. Куда там Танюшке Фешевой.
И Журченко на свадьбе мне сказал:
— Вот это действительно супруга. Это не какая-нибудь «подай-унеси».
А Танюшка, — уже дней через несколько мне рассказывали, — всю нашу свадьбу — вернее, весь ужин наш с музыкой — простояла напротив нашего дома и как будто ждала кого-то под дождем. И даже плакала — добавляли женщины.
И вот после этого разговора точно что-то случилось со мной, будто испортили меня, как говорилось в старину.
Ведь и свадьбу такую я устраивал как бы из мести, как бы желая всем показать — и в первую очередь бывшей моей жене, — что я не последний какой-нибудь навозный жук, что я в силе и в средствах взять и красавицу-невесту, и отпраздновать свадьбу всем на зависть и на удивление.
И все будто так и должно было быть. Но я вдруг сон потерял и интерес к моим занятиям, к моей, словом, работе. Хотя меня перевели на дневную смену. Но я что днем, что ночью — как сонная муха.
А у меня молодая жена. Моложе прежней, можно сказать, почти что на четыре года.
И так получилось, что и мамаша моя и вся родня просто прикипели к Наташе. Насколько они не ценили и даже осуждали Танюшку, настолько они теперь превозносили Наташу. И хороша собой. И хозяйка замечательная. И о муже печется. И родню уважает. Ну что еще, кажется, надо?
А я — в расстройстве. Даже не знаю, как объяснить. С работы иду и вдруг замечаю, что вроде не туда иду. То есть не на новую свою квартиру, не к новой своей жене, а туда, где раньше жил, с Танюшкой, с Эльвирой, где они и сейчас живут. И может, даже Танюшка кого-нибудь в этот момент принимает, когда я в ее сторону иду. Может, опять там этот старый крашеный дьявол Костюков. А мне вроде того все равно. И в то же время как будто обиднее даже, чем раньше.
Поставили мы себе на новую квартиру телефон. И Наташа завела порядок звонить мне, если я дома, когда она кончает работу, и спрашивать, не пообедать ли нам вместе, не пойти ли вместе в кино, ну, словом, как это заведено у всех остальных, как вроде того что положено.
Только после я понял, что получаюсь, похоже, как под контролем.
А мне пришла, например, фантазия зайти к Танюшке навестить мою дочь Эльвиру. Значит, что же, надо докладывать об этом Наташе? А я не хотел докладывать. И врать не хотел.
Просто вечером, никому ничего не говоря, вышел из дому и поехал на автобусе на улицу партизана Зотова, где я раньше жил. В это время Эльвира уже должна была быть доставлена из детского сада. И Танюшка чаще всего в эти часы была дома.