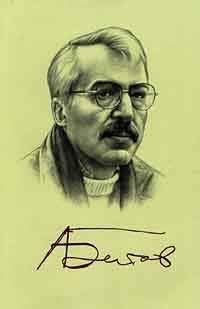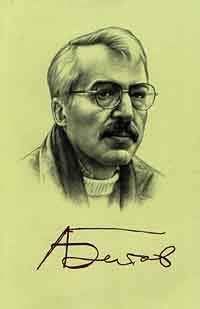Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!
Все больше бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевает.
Слайды Игоря проявили, пленки прослушали… Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка "Последняя туча рассеянной бури…"; молодой лесок, тот самый, который— "Здравствуй, племя, младое, незнакомое…"; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы… и дальше все — вода и волны.
И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: "Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!"
И здесь мы ставим точку, как памятник, — памятник самой беззаветной и безответной любви.
И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.
…промчалась четверть века!
Пушкин, 1836
Похороны семени
Хоть что-нибудь додумать до конца! —
обидней и отрадней нет венца…
Арифметических страстей четыре действа,
а целое число одно — один, один!
Иррацьональный бред — есть опыт кратной дроби:
двенадцать восемнадцатых… ноль, запятая, шесть…
шестерок ряд уходит в бесконечность, вильнув апокалипсиса хвостом…
Хоть раз совсем понять и разделить остаток
на самого себя — такое счастье!
не жить небрежностию жизни и надежды:
деление на единицу — есть реальность…
смерть — целое число!
Но разуму безумье неопасно —
и иррацьональное зерно у
ченым учтено
с спокойствием ужасным:
"Ну, что же, здесь не сходится всегда".
Так право человека — есть свобода
подумать ложно, рядом с мыслью — право.
Так разуму безумье неопасно…
Как будто бы! Есть мера одиночеств,
каких никто не знал, кроме тебя,
хотя бы потому, что их изведать —
и есть задача; шифр ее таит
возможность продолженья, и остаток,
как он ни мал, есть завтрашний твой день.
Каким бы способом Творца загнал Спаситель
иначе продолжать ошибку рода?
Какая, к чорту, логика в Твореньи —
оно равно лишь самому себе!
Нас заманить в себя гораздо легче,
чем в землю семечки… И семя есть мы сами.
Смертелен наш разрыв! Такая пошлость
не понимать, что только в нас есть жизнь!
Не нам кичиться бедностью с тобою,
держась за схемы общего удела!
Не отпереть нас рабскою отмычкой
боязни быть отвергнутым… Глаголы
"отдать" и "взять" имеют общий смысл:
ВСЕ не берет НИКТО. ВСЕ никому не надо.
Доставшееся мне… И мера одиночеств — и есть
запас любви, не вскрытый никогда.
Мне надо умирать ежесекундно!
Мне хоронить себя так не опасно,
как разве дерево хоронит семена…
Их подлинно бессмертье: без разрыва
из смерти — жизнь. Таит в себе дискретность
наличие души. Через какие бездны
придется пролететь, чтобы достичь
того, что дереву дано и так. Жалеть
об этом, право, нам не праздно:
однажды перестать стараться быть понятным —
и самому стать тем, что можно понимать.
1971
День рождения
Оставим этот разговор…
нетелефонный… Трубку бросим.
В стекле остыл пустынный двор:
вроде весна. И будто осень.
Вот кадр: холодное окно,
Ко лбу прижатое в обиде…
Кто смотрит на твое кино?
А впрочем, поживем-увидим.
Вот счастье моего окна:
закрыв помойку и сараи,
глухая видится стена,
и тополь мой — не умирает.
Печальней дела не сыскать:
весну простаивая голым,
лист календарный выпускать,
вчерашний утоляя голод.
У молодых — старее лист…
и чуждый образ я усвою:
что дряхлый тополь шелестит
совсем младенческой листвою,
что сколько весен — столько зим…
Я мысль природы понимаю:
что коль не умер — невредим.
Я и не знал, что это знаю.
Что стая вшивых голубей,
тюремно в ряд ссутулив плечи,
ждет ежедневных отрубей
(сужается пространство речи!) —
и крошки из окна летят!
Воспалены на ветке птицы:
трехцветный выводок котят —
в законных крошках их резвится.
Вот — проморгали утопить —
И в них кошачьей жизни вдвое;
проблема "быть или не быть"
разрешена сама собою.
Их бесполезность — нам простят.
Им можно жить, про них забыли…
И неутепленных котят
подобье — есть в автомобиле:
прямоугольно и учтиво,
как господин в глухом пальто,
в конце дворовой перспективы
стоит старинное авто.
Ему задуман капремонт:
хозяин, в ясную погоду,
не прочь надеть комбинезон…
В решимости — проходят годы!
Устроился в родном аду,
ловлю прекрасные мгновенья…
В какую жопу попаду
я со своим проникновеньем?!
Котятам — сразу жизнь известна,
авто — не едет никуда,
соседу — столь же интересно
не пожинать плодов труда…
И мне — скорей простят небрежность,
чем добросовестность письма:
максимализм (души прилежность) —
есть ограниченность ума
и — помраченье.
Почернели
на птицах ветви. Лопнул свет.
Погасла тьма. И по панели
пронесся мусор. И — привет!
В безветрии — молчанья свист,
вот распахнулась клетка в клетке —
и птицы вырвались, как хлыст,
оставив пустоту на ветке.
Двор — воронен, как пистолет,
лоб холодит прикосновенье…
и тридцать пять прожитых лет —
короче этого мгновенья.
И — в укрощенном моем взоре —
бесчинство ситцевых котят,
и голуби, в таком просторе,
с огромной скоростью летят.
1972
Открытое окно
Переделкино,
3 часа ночи 25 января 1980 года
(действительное происшествие)
И он мне грудь рассек мечом…..Свеча горела.
Мой друг сидел, не уходил,
бубнил, как эхо.
И не было взаимных сил,
чтоб он уехал.
А я сидел, а я кивал,
мне было плохо.
Пока он все-таки не встал —
простор для вздоха…
И я, с избытком широко,
раскрыл окошко: мол,
воздух зимний и покой —
не так, мол, тошно.
И отвратительный комок
из одеяла
в пододеяльнике, как мог, расправил…
Стало
мне легче, тише, я остыл…
И было небо
рассветно-красным и пустым.
Сон сном и не был.
Хотел я выскользнуть в окно,
и в одеяле,
взлетел как целое одно
на пьедестале.
Но воздух зимний охватил
нагое тело,
и я упал на пол без сил.
Такое дело.
Не узнавал себя в зеркальном отраженьи.
Как труп, я на полу лежал,
как в пораженьи.
Тогда приближилось Оно —
не чорт, не ангел —
как будто бы влетел в окно
пришелец наглый.
Он был невидим, ощутим,
брезглив, печален —
не шестикрылый серафим,
а так — начальник…
И он за член меня схватил,
как для упора.
И потянул. Но отпустил
довольно скоро.
К моей груди он приложил
как будто руки,
проник между костей и жил
с чутьем хирурга.
И было мне в его тисках
совсем не больно,
когда б не жалкий этот страх:
мной — недовольны…
Я перед ним лежал как труп,
не в силах всхлипнуть…
И он нащупал во мне куб,
паралле…пипед.
И он шкатулочку извлек,
чуть-чуть натужась…
тогда пустой мой кошелек
заполнил ужас.
Как будто бы я сейфом был,
комодом, шкафом…
А Он мне дверцу отворил,
полез за шарфом
или за чем-нибудь еще,
понастоящей…
И вот — нашел иль не нашел?..—
задвинул ящик.
И впечатленье таково,
по удаленьи:
во мне лежала вещь Его
на сохраненьи…
Поковырявшись, он исчез,
как снявши мерку,
и за окном шуршал, как лес.
ища тарелку…
Ах, что же сделал Он со мной?..—
догадка тщится.—
С моей единственной, родной,
Его вещицей?
Кто это был?! Проверка, сон,
предупрежденье?
профилактический ремонт?
иль вновь рожденье?
Он удалил или принес?
вложил иль вынул?
вернул, почистив?.. — вот вопрос!
не только символ.
Лежал я, тая, не дыша —
вершилось дело:
со мной творилася душа,
во мне болела.
Я гладил: Есть или не Есть?
в груди, за дыркой?..
И принимал Ее как Весть,
а не как пытку.
Я прижимал ее, как тать…
И мы уснули.
Как будто бы хотели взять…
а нам — вернули.
Памяти Высоцкого
С дорожденья горечь хины
Я познал как жизни вкус:
Выжить — нам важнее кино —
И других любых искусств.
Начинал я — то, что надо! —
С глада, хлада и свинца,
Но на жизнь мою блокады
Не хватило до конца.
Недоумер и от водки,
Не свалился со стропил,
И не сделалась короткой
Та, где я страдал и пил.
И кирпич не откололся
Ни один мне промеж рог,
И на нож не напоролся —
В этом тоже виден рок.
Потрясет лишь лихоманка,
Да помучает прострел…
Не сгорел я вместе с танком
И без танка — не сгорел.
И хотя не ведал броду,
Изживал в себе раба,
Но не умер за Свободу,—
Ждал Судьбы, но не Судьба…
От разлуки, от печали,
Горя, боли и стыда —
Раз не умер я вначале,
Значит, больше никогда.
Горстка образного праха
Эти смерти… Знали б вы!
Как не умер я от страха…
Как не умер от любви!
В жизни, как звезда успеха,
Светит нам частица "не":
Я не умер, не уехал
И не продался вполне.
Глубже истины не выдашь
И не превзойдешь умы:
"Раньше сядешь — раньше выйдешь",
"От тюрьмы да от сумы…"
Дом казенный — свет в окошке —
Нас в обиду нам не даст.
Недомучит понарошке,
Через век переиздаст.
Я не умер, я не умер,
Я не умер… вот мотив!
Неужели это в сумме
Означает, что я жив?
28 июля 1980