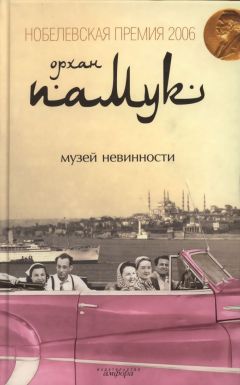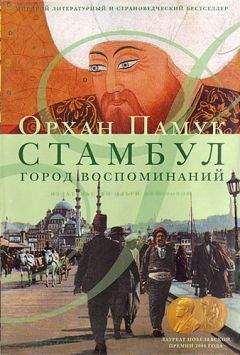Ознакомительная версия.
— Ты ничего не понимаешь.
— Чего это я не понимаю?
— Из-за тебя я не смогла жить так, как хотела, Кемаль, — лицо её помрачнело. — Я ведь очень хотела стать актрисой.
— Прости меня.
— Что значит «Прости меня?»?! — зло крикнула Фюсун.
Иногда я ехал быстрее, чем она шла, и было плохо слышно.
— Прости меня, — прокричал я еще раз, решив, что она меня не поняла.
— Вы с Феридуном специально не давали мне сняться в кино. За это ты просишь прощения?
— Ты хотела стать такой, как Папатья? Как все эти пьяные дамы из «Копирки»? Ты в самом деле этого хотела?
— А мы и так все время пьяные, — кричала она. — К тому же я бы никогда не превратилась в таких, как они. Но вы оба все время держали меня дома, потому что ревновали и думали, что я стану известной и брошу вас.
— Знаешь, Фюсун... Ты сама всегда боялась вступить на тот путь без поддержки сильного мужчины...
— Что?! — Я почувствовал, что эти слова её взбесили не на шутку.
— Дорогая, хватит. Садись в машину. Вечером, когда выпьем, будем ссориться опять, — поспешил я сгладить ситуацию. — Я очень, очень тебя люблю. Нас ждет прекрасная жизнь. Садись скорей в машину.
— У меня одно условие! — произнесла она с видом капризной маленькой девочки, совсем как много лет назад, когда попросила, чтобы я принес её детский велосипед.
— Да?
— Машину поведу я.
— В Болгарии дорожная полиция берет еще больше взяток, чем наша. У них много приемов, говорят.
— Нет-нет, — сказала она. — Я хочу только сейчас, до гостиницы.
Я сразу остановил машину, открыл дверь и вышел. Поймав её у капота машины, я крепко поцеловал Фюсун. Она тоже изо всех сил обняла меня, так что я почувствовал её упругую грудь и потерял голову.
Она села на водительское сиденье. Внимательно завела машину, что напомнило мне наши уроки в Парке Йылдыз, и, сняв с ручного тормоза, прекрасно тронулась с места. Локтем левой руки она оперлась об открытое окно, совсем как Грейс Келли в фильме «Поймать вора».
В поисках места, чтобы развернуться, мы медленно ехали вперед. Она собралась в один прием повернуть на перекрестке грязной деревенской улицы и шоссе, но не справилась, и машина, вздрогнув, заглохла.
— Следи за сцеплением! — посоветовал я.
— Ты даже мои сережки не заметил, — парировала она.
— Какие сережки?
Она завела машину, мы возвращались.
— Не надо так быстро! — попросил я. — Какие сережки?
— У меня в ушах, — глухо пробормотала она, будто после наркоза.
Я увидел на ней те самые сережки, одна из которых потерялась, когда я впервые пришел в Чукурджуму. Были ли они на ней, когда мы занимались любовью? Почему я этого не заметил?
Машина ехала очень быстро.
— Сбавь газ! — крикнул я, но она нажала на педаль до конца.
Вдалеке на дорогу вышел тот самый пес. Он словно бы узнал Фюсун и машину. Мне хотелось, чтобы пес заметил, что скорость увеличивается, и отошел, но он этого не сделал.
Мы неслись на бешеной скорости, которая с каждым мигом росла. Фюсун стала отчаянно сигналить псу.
Мы вильнули вправо, потом влево, но собака по-прежнему стояла посредине вдалеке. Ускоряясь, машина помчалась по идеально прямой траектории, как парусник, который несется по волнам, когда дует попутный ветер. Только наша линия слегка выходила за пределы дороги, и мы на полной скорости приближались не к гостинице, а к платану, стоящему впереди у обочины. Я понял, что аварии не избежать.
И тогда всем сердцем ощутил, что обретенное мною счастье сейчас закончится, что наступило время покинуть этот прекрасный мир. Мы мчались к платану. Именно Фюсун обрекла нас на такой финал. И я не видел другого возможного для себя будущего, кроме такого, как и у неё. Куда бы мы ни шли, мы должны быть вместе, пусть счастье в этом мире мы и упустили. Мне было нестерпимо жаль, но теперь казалось, что такой финал предрешен.
И все равно у меня автоматически вырвалось: «Осторожно-о-о!», будто Фюсун сама не понимала того, что происходит. Она была, конечно, пьяна, но не настолько, чтобы не справиться с управлением. А я кричал, словно в кошмарном сне, когда хотят проснуться, вернуться в обычную прекрасную жизнь. На скорости сто пять километров в час она направила машину к стопятилетнему платану, прекрасно сознавая, что делает. Я понял — это конец.
Старенький отцовский «шевроле» 56-й модели, прослуживший четверть века, на полной скорости влетел в дерево, росшее у дороги. По случайности поле с подсолнухами и дом посреди него, расположенные за платаном, оказались той самой крохотной фабрикой «Батанай», масло которой Кескины употребляли много лет. Мы с Фюсун заметили это лишь за мгновение до удара.
Много месяцев спустя, когда я разыскал «шевроле» на свалке и касался каждой из его частей, и сны, мучившие меня после катастрофы, впоследствии напомнили мне, что сразу после удара мы с Фюсун посмотрели друг другу в глаза.
Понимая, что умирает, она этим взглядом, длившимся две-три секунды, умоляла меня спасти её, взывала, что не хочет умирать, что привязана к жизни до последней минуты. А так как я тоже считал, что умираю, только улыбнулся моей прекрасной невесте, моей единственной любви, радуясь, что мы вместе отправляемся в другой мир.
О том, что произошло, я узнал потом, много месяцев проведя в больнице, со слов знакомых, из полицейских отчетов, от свидетелей аварии, которых разыскал.
Фюсун умерла через шесть или семь минут после удара, её зажало обломками автомобиля, а руль вошел ей в грудь. Она сильно ударилась головой о лобовое стекло. (В те годы в Турции еще не существовало привычки пристегиваться ремнем безопасности в машинах.) Согласно полицейскому отчету, который хранится в Музее Невинности, у неё был размозжен череп, задет мозг, чудесными способностями которого я всегда восхищался, и тяжело травмирована шея. Кроме сломанной грудины и осколков стекла в голове, ни в её прекрасном теле, ни в её грустных глазах, ни в чудесных губах, ни в розовом язычке, ни в бархатистых щеках, ни в крепких плечах, ни в шее, ни в подбородке, ни в шелковистом животе, ни в длинных ногах, ни в стопах, которые почему-то всегда меня смешили, ни в длинных, тоненьких медового цвета руках, ни в родинках и крохотных каштановых волосках по всему телу, ни в округлых ягодицах, ни в душе, рядом с которой мне хотелось быть всегда, никаких повреждений не было.
О прошедших после этого двадцати с лишним годах мне хочется рассказать не затягивая и закончить мою историю. Сидя за рулем, я открыл окно, чтобы разговаривать с Фюсун, и перед столкновением случайно высунул в него руку, поэтому меня быстро вытащили из машины. От удара в мозгу случилось кровоизлияние, в мозговой ткани были прорывы, я впал в кому. «Скорая помощь» привезла меня в Стамбул, в больницу медицинского факультета Чала, на аппарат искусственного дыхания.
Первый месяц я пролежал с трубкой во рту в отделении интенсивной терапии. Совершенно не мог говорить, слова не приходили в голову, мир застыл. Никогда не забуду, как меня навещали мама и Беррин с заплаканными глазами. Даже Осман проявлял нежность, но все равно на его лице было написано: «Я тебе говорил!» Сотрудники «Сат-Сата» вели себя очень уважительно и даже сочувственно.
Друзья — Заим, Тайфун, Мехмед — тоже приходили, но, как Осман, смотрели на меня с укором и грустью, ведь в полицейском отчете написали, что авария произошла по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения (о собаке никто не знал), а газеты аварию раздули, осудив во всем нас.
Через полгода мне прописали восстановительную терапию: я должен был учиться ходить. Это точно начать жить заново. И все время думал о Фюсун. Но теперь мои мысли касались не будущего и не прежних желаний. Фюсун постепенно превращалась в мечту из прошлого и воспоминаний. Это меня очень расстраивало, но теперь я не страдал из-за неё, а вызывал жалость сам. Именно в то время, размышляя о воспоминаниях, о боли и смысле утраты, я решил создать музей.
В качестве утешения прочитал книги Пруста и Монтеня. Ужинали мы теперь вдвоем с матерью, и я, сидя перед желтым кувшином, который купил после встречи с Фюсун много лет назад, задумчиво смотрел в телевизор. Мать считала гибель Фюсун чем-то схожей со смертью моего отца. Так как мы оба потеряли любимых людей, то позволяли себе грустить вдвоем. К тому же причиной обеих смертей в известном смысле стали стаканы с мутной ракы, а еще — иные миры, которые живут в душе человека, и то, что иногда, не удержавшись, эти миры вырываются наружу. Второе матери не нравилось, а мне хотелось говорить об этом постоянно.
В первые месяцы после выписки из больницы это желание просыпалось во мне, когда я приходил в «Дом милосердия» и, сев на кровать, на которой мы с Фюсун любили друг друга, курил, глядя на окружавшие меня вещи. Я чувствовал, что, если смогу рассказать о своей истории, боль станет легче. Для этого надо показать коллекцию людям.
Ознакомительная версия.