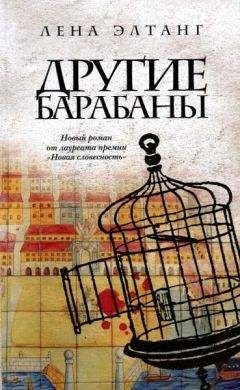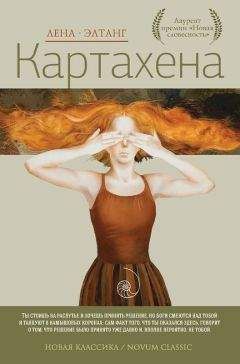— Скажу, что продал, а деньги проиграл. Пусть ищут другого козла отпущения.
— Сами подумайте, зачем им искать кого-то другого? У них теперь идеальный расклад: estrangeiro, литовец убил estrangeiro, литовца! Сразу ясно, что это внутренний dificuldade литовской мафии.
— Мне нравится, когда вы вспоминаете свой португальский. Дайте-ка мне лист бумаги, — я вынул украденный на допросе карандаш и стал рисовать схему. — Вот пункт первый, труп в спальне. Не представляю, как Хенриетте удалось так натурально продержаться в шавасане, пока я смотрел на нее, заливая ужас хозяйским коньяком.
— Коньяком? — адвокат оживился и даже, кажется, облизнулся. Его бритый подбородок сегодня лоснился от пота, глядя на него, я осознал, что в первый раз не дрожу от холода в комнате для свиданий. Видение лиссабонской весны, плещущейся там, откуда пришел этот человек, не сознающий своего счастья, брызнуло мне в глаза и заставило зажмуриться.
— Я пока не разобрался, как они это устроили, — нужно ведь точно знать, когда я подключусь к серверу. То есть они должны показать мне эпизод с убийством и при этом предвидеть, что я буду делать дальше: поеду домой, вызову полицию или продолжу сидеть у монитора и раз за разом обновлять картинку. Как бы то ни было, затея не принесла ожидаемых денег, хотя проделана была безупречно. Я испугался и согласился делать все, что велят, но отдать мне было нечего — дом был неприкосновенен, как дерево на могиле грешника. Разочарованный Ласло решил попробовать другой вариант и отправил меня в Эшторил, сговорившись с хозяином, который застраховал свои экспонаты на хороших четверть миллиона.
— А это что? — адвокат ткнул пальцем во второй кружок.
— Это пункт второй: имитация ограбления. Никаких матадоров в галерее не было, экспозицию упаковали и увезли задолго до того, как я туда явился. Хозяину не нужен был вор, ему нужен был такой человек, как я: дилетант, немного понимающий в технике и способный без шума забраться в окно. С паршивой овцы хоть шерсти клок! — я употребил ovelha desgarrada, русские идиомы застревают у меня в горле, когда нужно переводить их на английский.
— Потерянная овца? — адвокат поднял брови. — Но в вашей схеме нет ничего нового, нечто подобное мы уже рисовали, только там было больше стрелок. И вы больше нервничали.
— Мне не хватало нескольких звеньев, а теперь они есть. Человек, который занимался этим делом, придумал подставить меня, с тем чтобы убийцу искали среди литовцев. Ведь даже теперь, когда я докажу, что не причастен к этому делу, полиция долго будет разворачиваться в другую сторону, долго и медленно, как танковая колонна на проселочной дороге. Лютас кому-то здорово насолил, и его убили на португальской земле — подальше от настоящего виновника и поближе ко мне.
— Вам жаль его? — в глазах у адвоката мелькнуло сомнение.
— Я был единственным, кто знал его в этой стране. Само собой, я был бы первым подозреваемым, даже если бы на месте преступления не нашли оружия, взятого в моем доме.
— И вашего ингалятора, — добавил адвокат.
— Верно. Поэтому я думал на Лилиенталя, не так уж много народу знало о моей астме, а стащить эту штуку незаметно не так уж просто. Мне самому не всегда удается его отыскать.
Вечно ты все запихиваешь куда попало, говорила мне мать, Йезус Мария, ничего отыскать невозможно! Я молчал, огрызаться было бесполезно, она все равно не слушала. Однажды она вывалила на пол всю мою одежду из шкафа в поисках книжки, в которой засушила подаренную Гокасом розу, разобрав ее на лепестки. Это показалось мне поступком, достойным курсистки, не вязавшимся с крепкой, будто капустный вилок, фигурой матери.
Когда я встретил Габию — взрослую Габию, а не ту, по которой я изнывал на Валакампяйском пляже, — то понял, что это противоречие было свойственно не только матери, оно было привкусом, особенностью литовской женщины, не вышедшей замуж лет до двадцати пяти. Габия тоже читала книги с карандашом, отчеркивая грифелем впечатляющие признания, вязала беретики, которые никто не хотел носить, и даже умела крутить ведерай — свиные кишки, начиненные картошкой. Литовские женщины ослепительны в первой четверти своего века, но быстро становятся властными задастыми тетками, пропитываются лавандой и заводят себе убеждения.
— Теперь роза пахнет настоящим Гокасом, — сказал я, подавая матери найденную в уборной книгу, она молча взяла ее и пошла к себе, теряя по дороге лепестки. Кажется, мне ни разу не удалось ее насмешить. Все что угодно могло превратить мать в берсерка, кусающего щит, и остановить ее было нельзя ни огнем, ни железом.
Зато она смеялась во весь голос, когда увидела тетку, снявшую в прихожей шапку вместе с париком. Это было в последний Зоин приезд, в сочельник две тысяча первого года. Они с матерью вернулись с долгой прогулки, теткина вязаная шапочка намокла и примерзла, забывшись, она сняла ее одним движением и застыла перед зеркалом с голой головой, похожей на обросший светлыми щетинками рамбутан. Я отодрал черные волосы от шапки и подал ей, тетка улыбнулась мне в зеркале, ловко надела парик и снова стала похожа на французскую певицу — забыл, как зовут, — такую смешливую, с птичьими глазами под ровной смоляной челкой.
Певица, кажется, тоже умерла.
* * *
Сплошную дать комедию никак нельзя:
Цари и боги в действии участвуют.
Так как же быть? А роль раба имеется.
Вот и возможно дать трагикомедию.
Даже не знаю, с чего начать, Хани, ну и денек выдался, самый несуразный за все мое сидение (вашему сиденью — наше почтенье, как говорил двоюродный дед, когда заставал меня с книжкой в дворовом туалете), за все пятьдесят восемь дней.
Утром меня вызвали к следователю, и вовремя, вода в камере кончилась еще вчера. Сам не знаю, отчего я проснулся в панике, может, от жажды, а может, оттого, что заснул часов в пять утра: всю ночь лежал, слушая свое непривычное сердцебиение и глядя на стену, в которую упирался луч фонаря. В безлунном сумраке стена была похожа на карту, снятую со спутника где-нибудь в районе Малаги, там черные, плоские, как столешница, горы вот так же переходят в ровное полотно синевы. Я эту карту целый день разглядывал в прошлом году, хотел поехать в Испанию недели на две, да только не вышло, как всегда.
Лилиенталь предлагал мне снять с ним на пару бунгало где-нибудь в Торребланко, и я загорелся, даже несколько писем написал хозяевам дешевых домишек. Мой друг собирался рисовать там горный пейзаж, чтобы окупить поездку, а меня готов был содержать в качестве повара, собеседника и гонца, няня бы сказала — «прислуга за всё». Хотел бы я знать, кто этот безумный ценитель, готовый платить деньги за свинцовую белизну Лилиенталевых пейзажей? Одну свою картинку Ли подарил мне вскоре после нашего знакомства: по закрашенному белым куску картона была проведена еще более белая линия, грубая и рельефная, означающая, как автор пояснил, бег молодой лошади. С лошади долго осыпались крошки засохших белил, зато в темноте линия тускло светилась и даже, кажется, двигалась.
В Испанию Лилиенталь уехал без меня, ему подвернулась начинающая русская модель, и он решил, что вместо пейзажа будет писать поясной портрет. Я не обиделся — к тому времени у меня обострились проблемы с кредиторами, и нужно было срочно искать работу. К тому же я получил письмо от матери, где она грозилась приехать в начале лета, так что всерьез озаботился своими condições de vida, хотя знал, что Юдита не приедет, не на что ей ехать. К чему я это рассказываю? К тому, что когда в десять утра меня привели к следователю и оставили в кабинете одного, я первым делом подумал о Лилиентале и о том, как было бы здорово с ним поговорить.
С тех пор, как я звонил ему в марте и обозвал старым, уродливым и срамным фанфароном, прошло недели три, не меньше, и я был уверен, что он меня простил. Долго думать было некогда, я понятия не имел, куда подевался Пруэнса, и ожидал его с минуты на минуту, так что я сел на подоконник и набрал единственный номер, который знаю наизусть.
В доме Лилиенталя никто не снимал трубку, я выслушал гудков двадцать, не меньше, положил трубку, но тут же снова поднял ее и набрал свой собственный номер. Представить, что мой дом уже продан и Ли спокойно в него перебрался, было невозможно, но я уже перестал удивляться невозможным вещам и бояться чудовищ. Я сам чудовище.
— Алло? — женский голос показался мне незнакомым, я растерялся и промолчал.
— Алло, — повторили там, в моем доме. — Мисс Брага у телефона.
— Мисс кто?
— Косточка! — в трубке раздался знакомый смешок — Где ты шляешься, я уже неделю тут живу, а тебя все нет. Мне пришлось содрать с дверей какую-то сургучную кляксу!
— Господи, Агне, не тараторь, — я смотрел на дверь кабинета и был готов положить трубку в любой момент. — Куда подевалась Байша? И зачем ты содрала муниципальную печать?