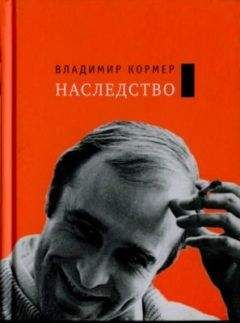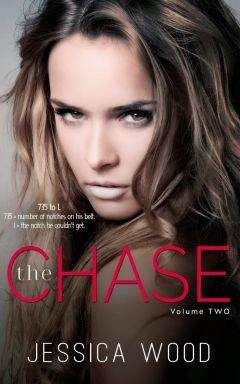Стаями бродили длинноволосые бухие парни, страшными воплями разгоняя встречных. Алкаши вымогали у проходивших копейки. Слышался возбужденный девичий смех. С замкнутыми, осуждающими лицами двигались под руку пожилые пары. Отрешенно, гордо шли бородатые неофиты. Азартом горели глаза интеллигентов. Деловито спешили куда-то подтянутые филеры в тирольских шляпках и куртках, не без презрения посматривая на собравшихся. Недоуменно переминалась компания «золотой молодежи» — подающие надежды нувориши из кинематографических жучков или дети нуворишей, при мехах и дубленках; впрочем, женщины были оживлены более, чем мужчины, определенно скучавшие и ждавшие, когда отсюда можно будет уйти и повеселиться с подругами. Школьники-акселераты, явившиеся сюда, наверное, всем классом, дурачились, загоняя своего товарища в «пятый угол». Их одноклассницы щебетали и дергали расшалившихся ребят за рукава, предупреждая, что идет милиционер. Но патрульный орудовец, весь в коже с головы до пят, не обращал на них внимания; он был растерян, не имея твердых инструкций, что делать, чтобы освободить проезжую часть. Позади него плелся седовласый нищий — актер. Размахивая мятой шляпой, он голосил: «Товарищи, не скажете ли, сколько времени? Товарищи, пора начинать, пора!» Шныряли и вовсе непонятные личности, каких уж много лет давно нигде не попадалось. Тетка рядом даже шарахнулась от одного такого — одичавшего или больного подростка, аккурат послевоенного беспризорного, в старой офицерской фуражке, надвинутой на уши и подхваченной под подбородком ремешком, без пальто, в запахнутом чужом пиджаке, рукава которого болтались у самых колен. Тут же из толпы, словно из омута времени, из глубин памяти, вынырнул еще один — по облику урка, из тех, что наводняли Москву после амнистии 1953 года, фиксатый, кепка с разрезом, модная у них тогда, белое кашне, воротник поднят. Втянув голову в плечи, он мгновенно по-воровски пропал. Затем возникли двое несусветных калек, ободранных и перекошенных, Бог весть где обретавшихся в другие дни года; безногий, с шутками и прибаутками прытко скакавший на деревяшке, вел за собой слепого.
При этом то и дело кто-то кого-то окликал, останавливал, хлопая по плечу; слышались довольные восклицания, регот — друзья веселились, застигнув приятеля в таком «неподходящем» месте. Похоже было, что все здесь знают друг друга или, по крайней мере, у каждого с каждым есть хотя бы один общий знакомый. Так, малый, которого Вирхов принял сперва за опера, потому как тот конфиденциально совещался с милицейским старшиной, через минуту мило беседовал с девушкой, принадлежавшей к компании «золотой молодежи», а потом с длинноволосым, завитым под Людовика XIV парнем из полублатной ватаги; в это время упомянутая девушка уже делала книксен солидному господину с тростью и представляла ему своего «жениха» (оперу она его не представила); жених же, раскланявшись с господином и оставив свою невесту и свою компанию, торопился на зов трех забулдыг, безусловно известных всей округе; у них был с собой стакан, они налили и жениху, тот выпил, не побрезговав; тотчас после этого один из собутыльников направился к возившимся школьникам, преподать им отеческое наставление, как надо себя вести; те почтительно внимали: «Да, дядя Яша, мы больше не будем, дядя Яша». Можно было бы предположить, что все они — местные, но едва Ольга и Вирхов подумали так, как увидели шурующего в толпе Меликова соседа, слесаря; всякий второй приветствовал его, а ведь он жил неблизко.
Чугунная решетка отгораживала церковь от сквера и улицы. Калитка была уже заперта, счастливцы еще толпились на ступенях крыльца, впихиваясь в перепруженные двери. Наконец двери за ними закрылись, в церковном дворике осталась лишь маленькая группка дружинников; с ними бранились старухи верующие, так и не сумевшие проникнуть внутрь. Еще человек десять, больше чтоб покуражиться, под бадривали старух криком и свистом. Многие взобрались на каменный фундамент решетки, приникли к прутьям.
Зверский крик раздался от самой калитки:
— П'ропустите ве'рующих в х'рам!!! Я т'ребую, слышите, вы, п'ропустите!!!
Толпа качнулась туда.
— Это же наш Григорий, — узнала Ольга. — Пойди забери его оттуда. Не хватало только, чтоб сейчас его сцапали.
Вирхов ринулся вперед и, схватив Григория за руку, потащил его прочь.
— Нет, какие ме'рзавцы! Какие ме'рзавцы! — возмущался Григорий, тем не менее охотно подчиняясь.
— Ладно, перестань, — сказала Ольга. — А наших ты не видел?
— Все наши там. И твой Заха'р, и Лешка, и Бо'рис, и Се-ня… Они успели пройти. Даже Ту'рчинский и Митя Каган здесь, хоть они тепе'рь и сионисты. Даже Целла'риус здесь… Слушайте, я видел Льва Владимировича! Как вы считаете, может это быть или нет?! Я, п'равда, видел только издалека. Но, по-моему, это был он! И с ним еще двое, вылитые кагебешники! Они вылезли из машины! Как вы думаете, могли они пойти на это? Позволить ему, так сказать поп'рисутст-вовать! Исполнить его последнюю п'росьбу! Или это провокация? Чтобы установить, с кем он будет здо'роваться, установить его связи, с'разу нак'рыть всех!
— Не думаю, — сказала Ольга. — Вряд ли. Да и что в такой толчее разберешь. Ты обознался… Скажи, а… Мелик…
— Нет, его я не заметил… А вы были там? Его там нет?
Ольга хотела спросить, откуда он знает про поездку (поездка была секретной), но лишь кивнула, на глаза у нее опять навернулись слезы.
— А Хазин? — поинтересовался Вирхов.
— Мы должны были встретиться с ним у мет'ро. Я, п'равда, немного опоздал… Ты считаешь, что он не п'ришел потому, что… Но ведь они не могли а'рестовать его в такой день! Неужели могли?! Но ведь это же бесчеловечно! Какое иезуитство! Негодяи! Нет, я не могу! Я не могу-у!!! — заорал он в полный голос.
И в ту же секунду наверху негромко ударил колокол. Толпа взметнулась. Одни повалили к решетке, другие назад, чтоб не быть задавленными. Какой-то мальчишка стал карабкаться на дерево, за ним полезли взрослые. Беспризорник в фуражке и клифте закукарекал. Еще двое-трое подхватили, некоторые просто кричали: угу-гу-у, ого-го-о!!! Слепец, которого вел безногий, вложив пальцы в рот, оглушительно засвистел, громче всех, свистевших вокруг. Треснула и упала здоровая садовая скамья, на спинку которой взобрались разбитные веселые девицы. С визгом они посыпались в разные стороны. Одну из них стукнуло больнее, двое мужиков, помигивая и ухмыляясь, под общий хохот помогали ей встать.
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех: и нас сподоби-и чистым сердцем Тебе славити-и!!! — набрав в грудь воздуху, запел во всю мочь Григорий.
Боковая дверь храма приотворилась. В освещенной полосе по одному на крыльце появлялись те, кто составлял маленький крестный ход. Они спускались с крыльца редкой цепочкой, чуть ли не пригнувшись, загораживая пламя свечек ладонями, тихонько шли вдоль стены, показываясь в просветах меж висевшими на решетке, и, поднявшись на главное крыльцо, протискивались обратно в храм.
Толпа по-прежнему кукарекала и свистела, но и пел уже не один Григорий. Ему подтягивала Ольга, старческая чета около них; кто-то беззвучно открывал рот. Сбоку заливался от души румяный, лишенный слуха и голоса студент с портфелем. Худосочный дружок, смущенный таким его поведением и подозревая, что тот сильно пьян, пытался увести его.
— Ты пойми, ты пойми, — шлепая толстыми губами и дыша метра на полтора дешевым портвейном, говорил румяный парень и обнимал дружка, чтоб похристосоваться с ним, — меня же мамка приучала! Понимаешь? Родная мать! Христос воскре-е-есе из ме-е-ерт-вых, сме-е-ертию-ю-ю… Родная мать, вот! У меня это вот где сидит!
Следуя его примеру, мужик, который помог подняться ушибленной девице, предлагал ей теперь похристосоваться и лапал за плечи.
— Не туда смотришь! — обернулась к Вирхову Ольга. — Вон, туда смотри! Видишь, кто это?! Вон, вон, на паперти!..
Вирхов вгляделся: сомнений быть не могло: как обычно, провоцирующе пугливо озираясь на людей за оградой, молитвенно сцепив руки со свечечкой пред грудью, по широкому церковному крыльцу проходила Таня.
— Да, это она! Она! — неизвестно почему торжествовал Григорий — Я вижу ее, вижу! Вот молодец, а?! Гово'рили же, что у нее было подряд т'ри се'рдечных п'рипадка?!
— Три припадка, да только не сердечных! — отрезала Ольга.
Последний из крестного хода скрылся в дверях. Колокольный звон оборвался. Толпа стала рассеиваться. Мимо важно прошествовал к машинам в переулке тот самый солидный господин с тростью, а под локоток его вел не кто иной, как Осмолов, отец Лизы, детской писательницы. Вирхов догнал их, осведомился о Лизе.
— Льиза уже выздоровельа, — заученно осклабился Осмолов. — Она вспоминальа вас. Она сейчас там, в церкви. Она сдельальась нынче рельигиозна. Польагаю, под вльиянием этой мильой старушки графини. Она тоже, сльава Богу, вы-звольена из кльиники. Они сейчас обе там…