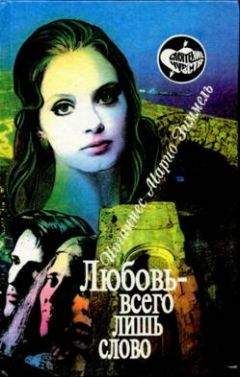— Да.
— А теперь поглядите на раны. Здесь. Здесь. И здесь. Я провел микроскопические исследования. Кровяные тельца крови, обнаруженной вами в машине, идентичны кровяным тельцам погибшего. Существуют специальные методы определения, когда и каким образом была потеряна кровь. Нами кровь обнаружена на лестнице башни и в машине. В машине столкновение произойти не могло.
— А может быть, покойный сам себе нанес раны?
— Это невозможно. Позвольте мне продолжить. По моему твердому убеждению, нападение на покойного было совершено в башне. Там он и получил повреждения. Затем он — я уже говорил вам, что смерть наступила в воскресенье, в начале вечера — дотащился до своей машины. В это время снег еще не шел. Вот поэтому ваши люди и нашли следы крови под снегом.
— Верно. Чего ему было нужно в машине?
— Ни малейшего представления. Может, хотел спастись бегством. Скрыться. Кто знает? Это уже не моя епархия. Когда начался снегопад, он, избитый, израненный, вновь потащился в башню.
— Из чего вы заключили?
— Его одежда и обувь все в снегу, господин комиссар! Я обнаружил кровь также и на подошвах! Но это не главное. Посмотрите, вот эта синяя полоса на шее от петли появилась, без всякого сомнения, как минимум два часа спустя после получения повреждений от ударов, а повреждения от ударов — и в этом тоже нет сомнения — он получил еще при жизни. Они, однако, были не настолько тяжелы, чтобы он не мог добраться до своей машины, а потом вернуться в башню.
— Но возможно, что машину специально измазали кровью. Иначе говоря, возможно, что парень, после того как его избили, не садился в машину.
— Нет. Обнаруженная нами кровь не намазана, а накапана, — возразил доктор Петер. — Далее: мы различаем типичные и нетипичные случаи повешения. Самоубийцы вешаются…
— Типично.
— Вот и нет. Они вешаются атипично.
— Что это значит?
— Если бы вы, господин комиссар, решили повеситься, то вы сделали бы так, чтобы узел петли приходился на позвоночник, с тем чтобы побыстрее и наверняка сломать себе шею. Если бы повесить вас решил я, то я бы сделал это так, чтобы на петлю не попала кровь, если я вас перед этим избил.
— А на петле была кровь?
— Именно. Кровь покойного. И на балке была тоже кровь. Я думаю, что между молодым человеком и еще кем-то произошла схватка, во время которой молодой человек получил различные ранения. Однако они были не столь тяжелы, чтобы он не мог потом повеситься. Исследование содержимого желудка показало, что молодой человек не находился под воздействием алкоголя, наркотиков или снотворного, которое лишило бы его возможности сопротивляться. По моему мнению, также не может быть речи об убийстве, инсценированном под самоубийство. Тем самым я хочу сказать: исключено, чтобы повреждения были причинены еще и после смерти. Об этом, как я сказал, свидетельствуют результаты микроскопического исследования тканей.
— Стало быть, его избили…
— Да. Но не до беспомощного состояния!
— …но не до беспомощного… дотащился до машины, посидел какое-то время там…
— Верно!
— …поплелся в башню и там повесился. Почему?
— Это уже ваша проблема, господин комиссар, — сказал доктор Петер. — Я попросил немедленно прислать сюда на вертолете профессора Мокри из франкфуртского университета, чтобы он подтвердил мои выводы. Он должен прибыть с минуты на минуту. Поверьте, это не было убийство. Что это у вас?
— Два конверта. Так, ничего особенного. Не могли бы вы сделать мне одолжение?
— Охотно.
— Если ваше мнение и мнение профессора Мокри совпадут, я дам разрешение на похороны. Вы положите труп в цинковый гроб. Не могли бы вы положить туда же оба эти конверта?
— Как вам угодно.
Харденберг посмотрел на мертвого.
— Я знал его маленьким мальчиком. Если это было самоубийство, почему он это сделал?
— Это, — сказал доктор Петер, — уже другой вопрос.
Харденберг покинул подвал.
В холле гостиницы он увидел толстого редактора. Лазарус махнул ему рукой. Харденберг подошел к нему.
— Я полагаю, сейчас вы пойдете к себе в комнату и начнете читать рукопись?
— Да, я так и хотел.
— Я думаю, что в таком случае у нас завтра вечером будет полная ясность. Скажите, господин комиссар, вы ведь обыскали карманы покойного?
— Разумеется.
— Нашли что-нибудь?
— Немного.
— Среди того, что вы нашли, была ли олива?
— С чего вы взяли, что она должна там быть?
— Когда вы прочтете рукопись, поймете, откуда мой вопрос. Значит, у него в кармане была олива?
— Да, старая, засохшая.
— А где она?
— В моем номере.
Пауль Роберт Вильгельм Лазарус тихо сказал:
— Не могли бы вы отдать ее мне, если она вам больше не нужна?
— Зачем она вам?
— Просто так, — ответил, краснея, жирный, неуклюжий человек, — просто так.
10 января 1962 года, приблизительно в 10 часов утра, двое мужчин шагают, утопая по колено в снегу, вверх по лесистому склону горы недалеко от городка Фридхайм. Дороги выше интерната еще не были расчищены и поэтому непроходимы и для саней. Единственной возможностью добраться до цели для обоих путников, комиссара Харденберга и редактора Лазаруса был весьма нелегкий путь пешком.
Неуклюжий Лазарус постоянно спотыкался и скользил. Его лицо было красно, как у рака, пот капал со лба, хотя все еще шел крупными хлопьями снег и все еще стоял собачий холод. Потел и Харденберг. Каждый шаг в этом чудовищном снежном море давался с большим усилием, и комиссар не без злой иронии думал о том, что тех людей, которым они хотели нанести визит, возможно, вообще нет дома. Попытка связаться с ними по телефону была безуспешной, потому что снегопад нарушил телефонную связь.
— Я… мне нужно присесть и передохнуть. Мое сердце не выдерживает, — сказал Лазарус.
Большой ком снега упал с ветки ему на шляпу. У него был забавный вид: укутанный, в сапогах, потеющий и запыхавшийся. Он механически опустил руку в карман и сунул без разбору в рот несколько таблеток.
— Последняя глава, — медленно произнес Харденберг.
Они присели рядышком и уставились взглядом в мельтешение снежинок. Вдруг они вздрогнули — в ста метрах от них со звуком, сравнимым разве что со взрывом бомбы, сломалось почти в самом низу вековое дерево. Падая, оно зацепилось за ветви других деревьев и косо зависло.
Когда дерево сломалось, Лазарус вскочил и громко вскрикнул. Потом снова сел рядом с комиссаром. Он был смущен.
— Я прошу прощения, господин Харденберг… Я… я страшно пуглив.
— И я. Но у меня более медленная реакция.
— Почему это произошло?
— Трудно объяснить точно, но однажды я уже видел нечто подобное. На войне. В России. И там однажды вдруг свалилось дерево. Мы осмотрели его. И обнаружили, что его ствол изгрыз бобер.
— Бобер?
— Да. Видно, он давно грыз его. Укус, еще укус и еще. Еще один кусочек коры, еще кусочек древесины. Дерево еще пока могло выдержать это. В одиночку бобер не смог бы его погубить! Но тут подоспел снег, гигантский снежный груз. Это было дереву уже не по силам. Что с вами?
Лазарус вытер лицо носовым платком.
— Ничего, — ответил он. — Просто мне вдруг подумалось, как схожи порой деревья и люди.
— Да, — сказал Харденберг, — только то, что мучает человека, что грызет его, подтачивает изнутри и обрекает на падение, это не бобер.
Дверь виллы открылась. Появился слуга в полосатом жилете. Его лицо было бледно, а на нем застыло выражение высокомерия.
— Добрый день, господа. Что вы желаете?
Харденберг назвал свою фамилию, фамилию своего спутника и достал из кармана служебный жетон.
— Уголовная полиция. Господин Лорд дома?
— Да, сударь.
— Его жена тоже?
— Да, тоже…
— Доложите о нас.
— По какому делу…
— Я не собираюсь разговаривать с вами, — сказал Харденберг, делая шаг вперед (одновременно господин Лео отступил шаг назад). — Пока не собираюсь. Позже мы с вами побеседуем, и не раз. А сейчас я желаю поговорить с господином и госпожой Лорд. И не ваше дело, что я собираюсь с ними обсуждать.
— Пардон, пожалуйста.
В этот момент в холл вошел Манфред Лорд. На нем были серый костюм и белая рубашка с черным галстуком. Он остановился прямо под картиной Рубенса с изображением пышнотелой светловолосой женщины, моющей ноги. Комиссару вспомнилось, о чем он читал последней ночью, а Манфред Лорд с улыбкой спросил:
— Что там такое, Лео?
— Господа из уголовной полиции, милостивый государь.
— Уголовная полиция?
— Так точно, пардон, пожалуйста.
Манфред Лорд подошел к пришедшим. Вынув руку из кармана, он протянул ее Харденбергу, который назвал себя, а потом, указывая на все еще не отдышавшегося Лазаруса, сказал: