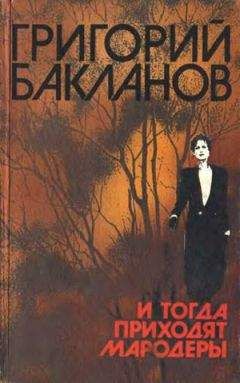Наконец им дали квартиру. Тот же шофер перевозил их, отец был на работе. Они долго ехали по Москве, потом пошли какие-то переулки, булыжная мостовая, деревянные старые дома, заборы. У водонапорной колонки на улице девочка в красном ситцевом платье мыла под струей босые ноги. И вот здесь, на пустыре, окнами на железную дорогу стоял дом, серый, пятиэтажный. Проходящие мимо поезда оглашали его гудками, обдавали угольным дымом паровозов. Шофер внес вещи, распрощался виновато, и остались они с матерью вдвоем. Голое окно, матрац на четырех ножках, узенький дубовый буфет со стеклянными створками наверху. А у стены стоял все тот же зашитый в рогожу их платяной шкаф. Чей-то ребенок плакал в квартире. Ничего не понимая, Женя вышел посмотреть. Дверь напротив их двери была открыта, и он увидел такую картину: на столе, задрав короткую рубашонку, стоял плачущий мальчишка и писал в открытый эмалированный чайник, попадал в него струей. Пробежала по коридору вспатланная женщина, дверь в комнату захлопнулась, и там начался крик и рев. Ничего не понимая, он спросил мать:
— Мы здесь будем жить?
Мать стояла лицом к окну, четко обрисованная светом.
— А где же моя комната?
Она обернулась, против света он смутно различил ее лицо.
— Я тебе не говорила, пока могла… Но ты уже большой. У твоего отца другая семья.
С перепугу решив, что вот этот плачущий ребенок, эта страшная вспатланная женщина и есть другая семья отца, он обнял мать, не к себе прижал, а к ней прижался от страха. Но она поняла по-своему, в нем она впервые защитника своего увидала.
— Ничего, сыночек, ничего… — И благодарно гладила его вздрагивающей рукой, а он на горле у себя, под подбородком, чувствовал вспотевший лоб матери: он был уже почти на голову выше ее.
И началась скудная жизнь. В квартире, кроме них, две чужие семьи, общая ванная, вечно завешанная чужим бельем, запах детской мочи, корыта на стенах — он брезговал этой ванной, — три стола на кухне; на одном из них, возвратясь из школы, он подогревал себе суп или жарил на электроплитке картошку и не мог дождаться, пока разогреется, бежал в комнату, где в буфете был хлеб, — ах, как чудно и буфет внутри, и само дерево пахли черным хлебом! — отрезал себе ломоть, намазывал маргарином, плашмя макал в сахарный песок и крался на кухню, чтоб застать мальчишку за воровством. Привлеченный запахом, тот, случалось, таскал жарящуюся картошку со сковороды, а однажды был застигнут на том, что подставил табуретку и прямо из кастрюли выгребал гороховую гущу из супа и ел. И Женя придумал средство: когда никого в квартире не было, он бил мальчишку мокрым полотенцем по голой попе, гонял по коридору и бил, благо пожаловаться мальчишка все равно не мог, — он оказался глухонемым, только мычал и выл.
Поверил бы кто-нибудь сейчас, видя, как по утрам Евгений Степанович Усватов садится в умытую, сияющую машину и едет в должность, проглядывая по дороге служебные бумаги, или, увидев его за массивным столом в его рабочем кабинете, а тем паче когда он возглавляет ответственные совещания, которые он умел проводить с таким изяществом и блеском, поверил бы сегодня кто-нибудь, смог бы себе представить Евгения Степановича в такой роли: с мокрым скрученным полотенцем в руке гоняет он по коридору плачущего глухонемого пацана и настегивает, настегивает со сладостью; тот однажды обделался со страху, и пришлось, преодолевая гадливость, подтирать за ним, замывать его над ванной, на весу. Но возымел-таки свое действие этот педагогический метод — даже улыбки его боялся соседский мальчишка, застывал при виде его.
А рядом, в том же городе, но в иной жизни, в ином мире, где белоснежные горничные до последней пылинки вычищают ковры и коврики, где сияют начищенные медные ручки, а бородатый швейцар открывает массивные двери, обитал его отец. Он тосковал по этой жизни, она снилась ночами. А мать приносила с фабрики, она работала там бухгалтером за гроши, жидкий кисель, похожий на клей из крахмала. И он ел его с хлебом.
Теперь почему-то часто вспоминался ему тот мальчик, ровесник его, которого мать тайно от отца подкармливала у них на кухне. Это была страшная зима тридцать второго — тридцать третьего года, толпы голодающих из деревень хлынули в город. Отец рассказывал за ужином — он и тогда поздно возвращался с работы, ужинал один в большой комнате за большим столом, накрытым крахмальной скатертью, ел всегда одно и то же: разрезанная на половинки большая холодная котлета на белом хлебе с маслом, стакан теплого, без пенки молока, стакан крепкого, очень сладкого чая, это необходимо для лучшей работы мозга, который, как говорила мать, он постоянно перенапрягал, — ужинал он и, методично прожевывая (у него была пониженная кислотность, и врач советовал тщательно прожевывать), рассказывал, что по ночам теперь, ближе к утру, ездят по городу телеги и подбирают замерзших на улице, вывозят их за город в овраг и там будто бы закапывают. Греться на вокзале эти люди боятся, их вылавливает милиция и отправляет обратно, и они прячутся по подъездам, по подворотням, а утром находят замерзших.
Женя сам не раз видел, как лошадь привезет фургон с хлебом, и на хлебный дух, на пар, который валит оттуда, сбегается толпа голодных: бабы, дети в лаптях, — и что-то невообразимое начинает твориться, когда их отгоняют гуртом, как овец, а лошадь, по глаза в подвешенной торбе, пережевывает тем временем овес.
Их семья, подобно другим семьям ответственных работников, была прикреплена к закрытому распределителю, и мать приносила оттуда полные сумки продуктов, помогала родственникам и еще постоянно кого-то подкармливала у них на кухне втайне от отца, а его просила не рассказывать, не волновать отца зря: он очень много работает. Но Женя чувствовал: тут дело в чем-то другом, иначе бы мать не говорила с ним заискивающим голосом. И тайна мучила его.
Дольше всех в ту зиму подкармливался у них на кухне мальчик его возраста. Когда мать впервые привела его и размотала с него тряпки, он показался даже полным, но мать сказала, что это он опух от голода. Он приходил каждый день, знал свой час, ждал его заранее, мать кормила его и что-то давала с собой. Женю в это время не пускали на кухню, но ему хотелось посмотреть на мальчика, которого они кормят, ему было интересно, может быть, он бы даже подружился с ним. И однажды, держа в руке хлеб, намазанный гусиным салом, он вошел. Он был упитанный мальчик в коротких штанах, с голыми коленками — в доме хорошо топили. И впервые увидел, как мать при чужом мальчике застыдилась его, своего сына, ее будто жаром обдало, а тот испуганно перестал есть. И еще заметил Женя, прежде чем его вытолкали из кухни, что на мальчике его курточка, старая, правда, но как раз та, которую он любил. А потом у них пропали отцовские калоши. И, сам не зная, как это получилось, просто само так вышло, сказал при отце: «А может быть, это тот мальчик взял, который приходит обедать?..» Как? Что? Почему? Кто к ним приходит обедать? Разразился ужасный скандал. Отец кричал, что страна во вражьем кольце, что мы вынуждены, вынуждены проводить индустриализацию такими методами, покупать станки за границей, не имеем права быть жалостливыми, иначе нас раздавят, сомнут!..
Мать всегда восторженно слушала его, а если были гости, восхищенными глазами оглядывалась на гостей: слышали, как умно он все сказал? И когда, поздно возвратясь с работы, он ужинал, один за этим большим столом, и говорил замедленно, с паузами, тщательно прожевывая и запивая, она, для него одного одетая, как в театр, с уложенными в парикмахерской волосами, внимала каждому слову. Но сейчас она робко возражала: «Как же так — отнять хлеб? Как же так, чтобы дети умирали от голода? Это же за их жизни покупаем…»
— Хорошо! — закричал отец. — Я не съем эту котлету! Ты можешь моей котлетой накормить их всех?
И он ушел из-за стола, швырнув бутерброд с недоеденной котлетой, и опрокинулся стакан молока на крахмальную скатерть. А ночью, проснувшись, Женя слышал, как мать грела ему молоко и подавала бутерброды в постель, и отец злился, капризничал, но все же в конце концов поел.
Вот этот мальчик в его старой курточке, который с того дня больше не появлялся у них на кухне, почему-то теперь нет-нет да и вспоминался ему. Он стыдился перед одноклассниками своей бедности, тяжелого запаха в квартире, стыдился нищенской обстановки. В их классе были ребята из бараков, но были из большого дома на Можайском шоссе. С ними он старался дружить. И однажды Борис Пименов позвал его к себе после уроков. Размахивая портфелями, громко болтая, они прошли мимо лифтера, поднялись в лифте. На звонок из-за мягко обитой двери раздался грубый породистый лай, и, когда вошли, огромный пятнистый дог кинулся лапами ему на грудь, обслюнявил поганой своей слюной. Борис хохотал, трепал пса за уши. «Он еще глупый, щенок. Знаешь, сколько ему? Семь месяцев. Дитя! Знаешь, какой он будет!..» И Женя тоже смеялся, стараясь показать, что ему это совсем ничего, он не испуган, тоже тянул руку погладить омерзительно голую собаку, но в душе был оскорблен. Пес шел за ними, постукивая когтями. Сияли в больших комнатах натертые полы, большой стол в столовой под абажуром был накрыт бархатной скатертью с бахромой, с кистями, в серванте за стеклом позванивали разноцветные бокалы.