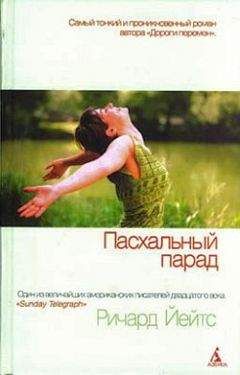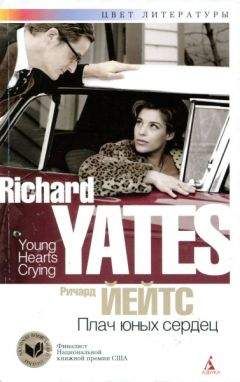На следующий день они встретились в Вест-Энде.
— Два пива, — сказал он официанту. — Нет, подождите. Два сухих, суперсухих мартини.
Он не изменился, ну разве что немного погрузнел; лицо его оживилось от некоторой взвинченности.
— Нет ничего скучнее психоаналитических подробностей, — начал он, — поэтому я тебя от них избавлю. Замечу лишь, что это был потрясающий опыт. Трудный, болезненный — не то слово! — но потрясающий. Мне могут потребоваться годы, но я уже преодолел первый барьер и чувствую себя гораздо лучше. Мне уже не мерещатся всюду чудовища. Впервые в жизни, кажется, я знаю, кто я.
— Эндрю, это же замечательно.
Он сделал жадный глоток мартини и с выдохом откинулся на спинку сиденья, а рука соскользнула к ее бедру.
— А ты? — спросил он. — Как прошел год для тебя?
— Не знаю, что сказать. Год как год.
— Я поклялся, что не стану задавать вопросов, но, когда моя ладонь ласкает это шикарное бедро, трудно удержаться. Сколько у тебя было романов?
— Три.
Он вздрогнул:
— Господи. Три. Я боялся, ты скажешь восемь или десять, но три — это даже хуже. Три подразумевает настоящие, серьезные романы. Это значит, что ты их любила.
— Я не знаю, что такое любовь, Эндрю. Я тебе уже говорила.
— Ты это говорила год назад. И сейчас не знаешь? Гм… это даже хорошо. Уже что-то. Поскольку я знаю, что такое любовь, я буду работать над тобой до тех пор, пока ты тоже не узнаешь. Ох, что я несу… «работать над тобой»… как будто я собираюсь… извини, ради бога.
— Тебе не за что извиняться.
— Ну да. Вот и доктор Гольдман говорит то же самое. «Вы всю жизнь только и делаете, что извиняетесь».
В тот вечер в греческом ресторане был выпит не один бокал мартини, а потом вино за ужином, и когда они наконец двинулись в сторону ее дома, Эндрю был уже пьяненький, и Эмили оставалось только гадать, плюс это или минус.
— Нас ждет главное спортивное событие года, — объявил он, когда они подходили к крыльцу. — Схватка за чемпионский титул. Претендент тренировался целый год — сумеет ли он продержаться на ринге в этот раз? После выпуска новостей смотрите первый раунд захватывающего…
— Эндрю, не надо. — Она обхватила его широкую спину. — Не говори глупостей. Мы просто поднимемся ко мне и займемся любовью.
— Все такая же милая, добрая и цветущая.
Они бились не один час, всё перепробовали, а результат тот же. И вот он сидел, обмякший, на краю постели, как проигравший боксер в углу ринга.
— Всё, — подытожил он. — Технический нокаут в четвертом раунде. Или уже в третьем? Победитель, сохранивший чемпионский титул, Эмили…
— Эндрю, не надо.
— Почему? Я пытаюсь обратить это в шутку. По крайней мере, спортивные журналисты напишут, что я встретил поражение достойно.
Следующая ночь стала для него победной, пусть и не идеальной — она так и не сумела по-настоящему откликнуться на его ласки, — но автор какого-нибудь руководства по занятию сексом выставил бы ему оценку «удовлетворительно».
— О Эмили, — заговорил он, отдышавшись. — Так бы в нашу первую ночь… сколько ужасных, бесплодных…
— Ш-ш-ш. — Она погладила его по плечу. — Не надо ворошить прошлое.
— Ты права. Не будем ворошить прошлое. Лучше подумаем о будущем.
Вскоре после ее выпускных экзаменов они сочетались гражданским браком. При сем присутствовали только свидетели — молодая пара по фамилии Кролл, знакомые Эндрю. Из ратуши через городской парк они отправились, по выражению миссис Кролл, на «свадебный завтрак», и Эмили узнала этот забитый до отказа ресторан — когда-то давным-давно она приходила сюда с отцом.
Перед «завтраком» они позвонили мамам. Пуки ожидаемо заплакала в трубку и взяла с Эмили слово, что завтра вечером они к ней приедут. Мать Эндрю, жившая в Энглвуде, Нью-Джерси, пригласила их на следующее воскресенье.
— Дорогая, он такой милый. — Пуки зажала дочь в углу тесной кухни, пока Эндрю потягивал свой кофе в соседней комнате. — Поначалу я его немного… побаивалась, но он на самом деле ужасно милый. И мне нравится его речь, как бы подчеркнуто официальная… Он должен быть очень умным…
Мать Эндрю оказалась старше, чем Эмили предполагала: морщинистая, сильно напудренная голубоволосая женщина в эластичных чулочках до колен. В гостиной, которую, судя по запахам, только что пропылесосили, она сидела на обитом ситцем диване в компании трех белых персидских кошек и беспрестанно моргала, словно вспоминая, что рядом еще кто-то находится. На ярко освещенной, но затхлой застекленной террасе, именуемой «музыкальной комнатой», стояло пианино, а на стене висел фотопортрет Эндрю в возрасте восьми-девяти лет, в матросском костюмчике, на банкетке, с лежащим на пухлых коленках кларнетом. Миссис Кроуфорд откинула крышку пианино и с мольбой взглянула на сына.
— Сыграй нам что-нибудь, Эндрю, — попросила она. — Эмили слышала, как ты играешь?
— Мама, пожалуйста. Ты же знаешь, я давно не играю.
— Ты играешь как ангел. Когда я слышу по радио Моцарта или Шопена, я закрываю глаза, — тут глаза ее закрылись, — и представляю тебя сидящим за инструментом…
В конце концов он сдался и сыграл что-то из Шопена. Эмили показалось, что он «гонит лошадей», хотя, возможно, он сознательно валял дурака.
— Господи! — сказал он, когда они сели в нью-йоркский поезд. — Каждый раз после этих поездок мне требуется несколько дней, чтобы прийти в себя, чтобы снова начать дышать…
Оставался последний визит — к Саре с Тони в Сент-Чарльз, — и они тянули с ним до конца лета, когда Эндрю купил подержанную машину.
— Итак, — сказал он, разгоняясь по широкому лонг-айлендскому хайвэю, — наконец-то я познакомлюсь с твоей красавицей-сестрой и твоим утонченным романтическим героем-зятем. У меня такое ощущение, будто мы сто лет знакомы.
Он был не в духе, и она знала причину. Все лето он справлялся со своими супружескими обязанностями, если не считать отдельных срывов, но в последнее время — что-то около недели — превратился в былого неудачника. Прошлой ночью у него случилось преждевременное семяизвержение ей на ногу, после чего он рыдал у нее на плече.
— Он был в армии?
— Кто?
— Лоренс Оливье. А о ком мы говорим?
— Я тебе рассказывала. Его призвали во флот, но потом приписали к заводу «Магнум» как морского специалиста.
— Что ж, по крайней мере, он не высаживался с боями в Нормандии и не удостоился Серебряной звезды с четырнадцатью дубовыми листьями. По крайней мере, от этих рассказов мы будем избавлены.
Найти Сент-Чарльз по хитросплетениям дорожной карты оказалось непростым делом, но уже в самой деревне Эмили по некоторым опознавательным знакам («КРОВЬ И ПИЯВКИ») довольно легко указала путь к имению Уилсонов. У въезда на территорию стоял столб с табличкой, на которой рукой Сары было выведено: «Большая усадьба».
Молодые Уилсоны сидели на одеяле, разостланном на лужайке перед домом, а трое их малышей барахтались и щебетали вокруг них под полуденным солнцем. Они были так заняты собой, что даже не заметили появления гостей.
— Жаль, у меня нет фотоаппарата, — обратилась Эмили к хозяевам. — Вы отлично смотритесь.
— Эмми! — Сара вскочила и с распростертыми руками двинулась им навстречу по яркой, сочной траве. — А вы, стало быть, Эндрю Кроуфорд. Очень приятно познакомиться.
Приветствие Тони было не столь экспансивным — в его прищуренных улыбающихся глазах читалась не столько радость, сколько легкое любопытство, он словно спрашивал себя: «А почему, собственно, я должен распинаться перед этим типом? Только потому, что он женат на моей свояченице?» Впрочем, он достаточно крепко пожал руку гостю и произнес при этом все, что полагается.
— Эрик-то, оказывается, уже пошел, — сказала Эмили.
— Ну да, — откликнулась Сара. — Ему почти полтора года. Это вот наш Питер — все лицо испачкал печеньем, а это Тони-младший, ему уже три с половиной. Что скажешь?
— Они такие симпатяги.
— Мы недавно вышли погреться на солнышке. Пойдемте в дом — самое время для коктейлей. Дорогой, ты не вытряхнешь одеяло, а то оно все в крошках.
«Коктейли» свелись к следующему: хозяева, следуя давнишнему ритуалу, переплели руки, чтобы совместно сделать первый глоток, а гости сидели и смотрели на них с вымученными улыбками. Веселее после этого не стало. А время шло, удлинились тени на полу, выходящие на запад окна окрасились червонным золотом, а все четверо сидели неподвижные и зажатые. Даже Сара не болтала, как обычно, не рассказывала бессвязных анекдотов, и, если не считать ее двух-трех неловких вопросов о том, чем Эндрю занимается, она выглядела скованной, словно боялась показаться простоватой в присутствии столь ученого человека.
— Философия? — Тони погонял кубики льда в пустом стакане. — Боюсь, что для меня это тайна за семью печатями. Одолеть такую книгу — уже подвиг, а уж преподавать… Как это возможно?