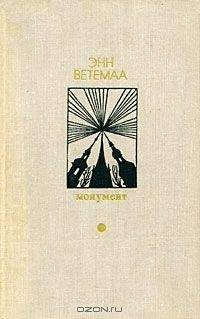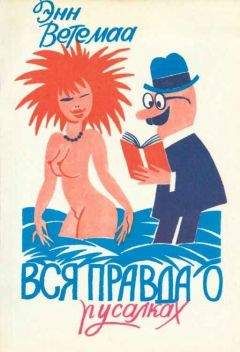И она удалилась, что-то напевая.
«Да это же прекрасно, что Марет предлагают роль», — подумал Мати, вернее, попытался подумать. Он чувствовал, что в нем зарождается совсем особое, незнакомое доселе чувство. Что это? Мати сел. Неужели ревность? Он и представить себе не мог, что такое чувство вообще может возникнуть, обычно Мати не знал, как отделаться от женщин; что касается ревности, то он жил, словно в стерилизаторе, от подобных микробов полностью застрахованный… А, ерунда! Откуда такие дурацкие мысли! Именно этого, наверное, Вероника и добивалась, для того ока все так и преподнесла.
Мати представил себе скромное спокойное лицо, серьезные добрые глаза. Марет излучает тепло и верность. И ощущение домашности. Потому-то Мати и позволил ей проникнуть так глубоко в свое «я», глубже, чем кому-либо из прежних женщин. Как это Вероника сказала? «Тихая, чуть теплая водичка, такая не брыкнет…» Это было скверно сказано. Как она посмела это сказать!.. Э, да чего можно ждать от такой, как Вероника, она только и добивается, чтобы ты проявил слабость, а потом ею воспользуется. Ясное дело!
Да, но Вероника останется с носом. Получение роли только приблизит начало совместной жизни с Марет, с ней заключат договор, они смогут присмотреть мебель.
И все же в сердце Мати притаилось неясное сомнение. Он решил разыскать Марет.
В гостинице Мати не нашел ее. В этот день он нигде ее не встретил, хотя у Марет был выходной.
Бывают же на белом свете чудеса — плотник Яан Сокуметс, тучный человек лет шестидесяти, мастак в своем деле, занаряженный председателем местного колхоза в помощь киношникам, заблистал прямо-таки как звезда. И вовсе не в качестве плотника. Когда Мадис увидел этого мужика с плутовато-простодушным взглядом, занятого выдергиванием гвоздей, он встал как вкопанный. Подобные стойки почти всегда означали, что сейчас что-то произойдет. И произошло. Несчастного упирающегося Сокуметса, не мешкая, поволокли к гримерам и костюмерам, и те принялись виться вокруг него. Сперва Сокуметса хотели испробовать в конюхах. На карточку сняться он был не против, только грим накладывать никак не давался.
— Вздеть — вздену чего хошь, — непреклонно заявил он возле замка Сангасте, — но рожу свою марать я вам ни за какие деньги не дозволю. Не дозволю, и шабаш! — хитроумно возведенный навес у подъезда к замку усилил его категорический отказ до такой громогласности, что Хелле, которая случайно оказалась в самом центре вестибюля, где была превосходная акустика, с испуга выронила стаканчик с мороженым.
А когда гримеры затеяли с Яаном свару, он и вовсе скинул с себя киношмотки.
— Домой пойду, и шабаш! — Но эти шмотки здорово шли Яану Сокуметсу, словно он сроду их носил. Да и самому Яану они пришлись по вкусу, он и так и этак вертелся перед зеркалом и довольно ухмылялся. Больше всего ему приглянулась шляпенка с зеленым пером. — Может, продашь? — обратился он к Мадису, который, как рассвирепевший индюк, аж шея красная, прибежал на вопли гримеров. — Я бы купил. Сурьезно! — при этом взгляд Яана выражал такое откровенное простодушие, что Мадис не заорал, только вылупился на него, склонив голову набок, словно разглядывая какую-то диковинку, а потом захохотал. — Ну чего ржешь-то, ты вроде бы уж в годах! — обиделся Яан. Взгляд его становился все более простодушным, но в нем словно блеснул огонек. Уголок рта дрогнул («Я тоже не вчерашний день на свет родился», — могла выражать эта ужимка, могла, но вовсе не обязательно должна была выражать), и Яан еще более твердо заверил, что личность свою изгваздать не дозволит. Он человек женатый, двоих детей имеет, он не какой-нибудь стрекулист.
Мадис взял его за пуговицу и отвел в сторонку, и вот двое низкорослых, но кряжистых мужиков уселись на бревнышки и принялись о чем-то калякать. Яан узнал, что на снимке он таким не останется; ежели грим не положат, вот тогда-то Яан меж других артистов и будет, курам на смех, вроде упокойника, потому что светофильтры, и объективы, и ультракрасный, и… и так далее. Видать, разговор Мадиса был в достаточной степени веский, потому что Яан поплелся назад к гримерам. И от костюмеров он получил добавок к одежке, так как конюх Сокуметс во время сидения на бревнышках был произведен в старшие кучера. Итак, актеру из Пярнуского театра пришлось скидывать свой кафтан — нередко ведь возвышение одного означает понижение другого. Прежнего старшего кучера разжаловали в конюхи, на что тот гордо вскинул голову и объявил, что он, будучи профессиональным художником сцены, не намерен тягаться с сельской самодеятельностью. Но Яан успокоил художника сцены. Пускай тот зря не тревожится, им спорить не о чем. И насчет себя добавил, что самодеятельностью сроду не грешил, а пользительной деятельностью в молодые годы занимался, в кооперации участвовал, когда в Локута маслозавод строить собирались, небось художник сцены слыхал об этом, он ведь человек образованный.
Яану дали брошюрку, которая называлась сценарием. Строчки, что Яану предстояло заучить, были в ней подчеркнуты красным. Но поскольку очков у него с собой не оказалось, Рейн сам прочитал ему эти слова, даже три раза прочитал. Яан слушал-слушал, потом сказал, что хватит, и отошел в сторонку обдумать свою первую роль. Слов-то этих не так уж много…
— Так что не могу знать… — пробормотал Яан и смачно плюнул на бревна. Эти слова были нетрудные. А дальше пошло потруднее, да еще на русском языке: — Я герой турецкой войны, сам генерал мне часы подарил, я и чертовой бабушки не боюсь… Чертовой бабушки, чертовой бабушки… — затверживал Яан Сокуметс, щурясь на вечернее солнце.
На западе небо покраснело, ветер приносил медовый запах сена. Альвийне небось уже дома, подумал Яан, сейчас бы мы похлебку хлебали, и в груди у него словно защемило.
Яан подошел к главному и сказал, что он уже готовый и может начинать выкамаривать, а то ужинать охота, да и баба небось тоже уже сидит как на угольях. Однако он услышал, что сразу начинать не выйдет, надо еще декорации поставить, да и свет пока не налажен. Старший кучер задумался, потом с хитрецой посмотрел на Мадиса Картуля и повторил, будто репетируя, свою третью фразу: «А сколько барыни мне за это заплатят?» Ну это мы ужо поглядим, пообещал Мадис, и все вдруг заулыбались.
А знает ли Яан Сокуметс, какие рисковые мужики были эти барские кучера, полюбопытствовал Мадис. Дак они лошадей сманивали, а, бывало, иной раз и барынь тоже, предположил кучер, герой турецкой войны, и щелкнул кнутом по голенищу.
Мадис Картуль сперва вытащил локти, потом запястья и, наконец, большие пальцы из своих любезных обвислых, затасканных штанов и взревел, долго ли, дескать, намерены волынить осветители, товарища Сокуметса ждет любимая супруга, а терпение этой дамы лучше не испытывать. И вскорости объявили кадр семьдесят семь, дубль один, и камера застрекотала.
Барский кучер припустил от корчмы к дому с пустой каретой (на самом деле в ней спрятался, и кучеру это хорошо известно, Румму Юри), так барин приказал, а что барин приказал, то для кучера закон. В это самое время начинают съезжаться гости, офицеры прогуливаются по двору, явное недоумение по поводу отсутствия хозяина. Кучера это не касается, его больше тревожит грязная дверца кареты. Он преспокойно начинает оттирать тряпкой славный герб. (В этом оттирании должен быть подтекст — дерьмовый все-таки герб, пусть так о нем думает Яан Сокуметс, наставлял режиссер.)
Вот Яан и трет, и, когда озабоченная домоправительница подходит к нему и шепотом спрашивает, куда барин подевался, кучер невозмутимо ответствует: «Так что не могу знать…» Герб, окаянная сила, никак не хочет заблестеть, и вот Яан делает то, что ему ни в коем разе не велели: смачно плюет на дверцу кареты и трет дальше. Стрекотание камеры смолкает, ведь такой номер не был предусмотрен. С полминуты все молчат, потом Рейн Пийдерпуу ликующе кричит: браво!
— Ого, да-да, — на мгновение задумывается Мадис Картуль, наконец и он, к общему удовольствию, поддерживает Рейна. Только Яан Сокуметс вовсе не радуется, наоборот, он выглядит озабоченным и виновато скребет ляжку.
— Вот, понимаешь, завсегда такая нескладица, как скажу «так что не могу знать…», вроде самочинно плевок вон лезет. Баба всякий раз зудит, а толку ни на грош, уж такие, видать, это слова — без плевка никак невозможно.
Мадис хочет сделать еще дубль.
— Чего, повторить, что ли? Ну что ж, грязи тут хватит, и слюней тоже.
Затем приступают к следующей сцене. Яану дают указание продолжать оттирочные работы, а между тем во двор въезжает карета графа из Туповере. Карета подкатывает к лестнице, лошади, храпя, останавливаются в облаке пыли. Яан подходит к карете, чтобы открыть дверцу.
Из кареты вываливается щуплый заморыш — Туповерский граф, за ним вперевалочку вылезает грузная барыня лет пятидесяти. Под носом у барыни черненькие усики, которые будто бы являются признаком похотливого нрава. Видать, так оно и есть, потому что Яана Сокуметса, человека уже не первой молодости, окидывают оценивающим взглядом. Яан Сокуметс стоит смирно, словно аршин проглотил; это и впрямь выправка, подобающая герою войны.