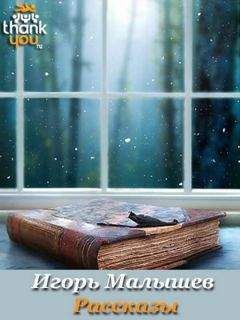Прибегавший следом, обеспокоенный моим бегством Луиджи, говорил:
— Не смотри на солнце, оно может выжечь тебе глаза, — и приводил меня этими словами в самое искреннее недоумение.
— Почему самое красивое, что я знаю в мире, так опасно?
— Видишь ли, каждый, кто хоть раз видел солнце, запоминает его навсегда и ему нет нужды разглядывать его. Ты так много смотришь на него, потому что из-за какой-то дьявольской жадности стараешься впитать его целиком без остатка.
— А есть люди, которые могут смотреть на него часами, не боясь ослепнуть?
— Есть, но их мало, совсем мало.
— Ты знаешь таких?
— Знаю, отец-настоятель.
— Почему же ему можно, а мне нельзя?
Луиджи помолчал, словно не зная, стоит ли отвечать.
— Он замечательный человек, лучший из всех кого я когда-либо видел.
— Лучше, чем Папа Римский?
Он раздраженно пожимал плечами.
— Почем я знаю, что за человек Папа? Я его даже ни разу не видел.
Он замолк, недовольный, что из-за меня он сморозил такую откровенную ересь.
— На костер еще из-за тебя попадешь, — он помолчал. — Так вот, он замечательный, я думаю, что со временем его могут даже причислить к святым. Когда он был еще совсем молод, в его судьбе принимал участие сам Папа Лев Х. Наверное почувствовал, что у него большое будущее.
Я убегал в сторону, потом возвращался.
— Луиджи, а что будет, если я все-таки буду смотреть на солнце?
— Ты слышал когда-нибудь легенду об Икаре?
— Да, ты мне рассказывал.
— Когда? Я не помню, чтобы делал этого.
— Ты тогда сильно пьяный был.
— Ладно, — обрывал он меня, — мал ты еще старших обсуждать.
— Никого я не обсуждаю, но ты действительно много пьешь.
— Ты будешь наконец слушать или нет? — вскипал он.
— Буду, — в тон ему, кричал я.
— Так вот, Икар тоже захотел разглядеть солнце получше. И более того, я думаю, что поскольку греки были язычниками и видели богов во всем — в ветре, земле, морской волне, солнце, молнии, то Икар не просто полетел к солнцу, он захотел узреть лик Божий. Представляешь? Захотел узреть лик Божий? Это ж какая дерзость, какая гордыня? А может, он думал, что сможет еще и дотронуться до него? Конечно же он должен был погибнуть, — убежденно проговорил мой спутник.
Я уходил несколько опечаленный. По этой легенде выходило, что если человеку и дано летать, то лишь невысоко, у самой земли, как Дедал. Человеку человеческое, и любой дерзновенный замысел карается смертью.
Грустные мысли утихомиривали меня совсем ненадолго, и при первом же случае я лазил через высокие заборы, чтобы нарвать сладких груш, увернувшись от собак, или просто для того, чтобы узнать, что интересного там за забором, ругался с Луиджи по поводу и без, а еще два раза подрался с мальчишками. Первый раз когда мне показалось, что один жульничеством обыграл другого в «веревочки», а второй просто так, настроение было плохое. Первый раз я вышел победителем, и если бы не вмешательство Луиджи, побежденному пришлось бы совсем скверно, а во втором случае мне разбили камнем голову. Луиджи при этом сказал, что для меня же было бы лучше, если бы меня не рождали на свет вовсе, потому что до своего шестнадцатилетия с таким характером я не доживу. Я его даже пожалел, сколько он со мной терпит всякого, но ему, конечно же, ничего не сказал, зато задал другой вопрос.
— Луиджи, а правда, что если долго быть на солнце, то оно сожжет все твои грехи?
— Не знаю, не уверен, но если ты будешь приставать ко мне с такими глупостями, я оттаскаю тебя за вихры.
Я отбегал на безопасное расстояние и, встав в развязную позу, засунув большие пальцы рук за веревку, заменяющую мне пояс, выдавал следующее:
— То-то я и смотрю, волос у тебя немного осталось, видно, тоже любил донимать людей всякой дрянью.
Луиджи лишь устало глядел на меня.
— Ха, — нахально заявлял я, — ты вон уже лысый наполовину, а простых вещей не знаешь. Солнце сжигает грехи. У кого хочешь спроси. Только такой зануда, как ты, не знает этого.
Качая головой Луиджи смотрел на полуденное, белое от зноя небо, видимо спрашивая, сколько же еще ему нужно жариться, что бы Господь простил его и отправил меня в ад, где мне самое место.
— Слушай, Луиджи, а ангелы крестятся? — говорил я, чтобы повергнуть его в окончательное уныние по поводу своей судьбы, которая волею рока оказалась связана с таким глупым и болтливым существом.
За лето мы исходили пол-Италии и стоптали все башмаки. Осенью вернулись обратно в монастырь. Когда Луиджи вышел от отца-настоятеля, отчитавшись за все, проданное летом, он был мрачен и ворчал так, будто до этого ему целый год не разрешали брюзжать. Видимо отец-настоятель был не в восторге от наших трудов, но мне было все равно — я ни за что не отвечал.
Мика приветствовал меня как старого друга. Борода его, выбеленная солнцем и временем все также окружала его лицо словно нимб и немного отсвечивала. Блаженный закивал мне издали, разводя руки и, видимо, желая обнять.
— Здравствуй Мика, — я тоже обрадовался ему, сам не зная почему.
Он сделал большие глаза и взял меня за рукав.
— Пойдем.
— Начинается, — подумал я — будто и не уходил никуда.
Он притащил меня к своему тайнику. Воровато оглянулся, и убедившись, что за нами никто не наблюдает, забормотал, приблизив ко мне свое лицо. За лето я сильно вырос и теперь он доставал мне самое большое до виска.
— Чтобы никто не видел. Никому нельзя. Только тебе можно, — он внимательно поглядел на меня, чтобы я оценил его доверие, — только тебе.
С этим он достал из-под камня перо. Это было необычное перо. Серебристое, казалось, оно было сделано из металла. Я взял его в руку и внимательно оглядел. Оно казалось величайшим произведением рук человеческих. Я узнал его, это был серебряный кречет. Он живет в неприступных скалах и встречается чуть чаще единорога. Говорят, что тот, кто видел его однажды, обязательно захочет увидеть еще раз. Я присмотрелся и разглядел крошечное пятнышко крови на блестящей поверхности.
— Где ты взял его, Мика?
Блаженный вдруг выхватил у меня драгоценное перо и спрятал назад, под камень, бормоча:
— Прилетел, ударил, брызги — дзынь по полу. Перо нашел, за пазуху — раз. Никто не знает, только ты.
Я ничего не понял и спросил его.
— Кто прилетел? Какие брызги?
— Этот, с неба прилетел. Прямо с неба и дзыннь — брызги. Перепугались! У!
— Кто перепугался?
— Братья, — он залился счастливым смехом, — Даже отец настоятель испугался. Но он только чуть-чуть испугался, меньше муравьиного глаза.
— Мика, — закричал я на него, — какие глаза?
Его сбивчивые объяснения запутали меня донельзя. Карлик съежился, тихо и испуганно проговорил.
— Муравьиные глаза, те что у муравьев, — и густо покраснел.
Я понял, что тут ничего не добьюсь и пошел спрашивать о происшествии у братии.
После ужина брат Матео неохотно рассказал мне, следующую историю. Однажды вечером, вскоре после нашего с Луиджи ухода, во время вечерней молитвы, вверху, под самым куполом церкви раздался звон и на каменные плиты пола, на молящихся монахов сверху упала птица, заливая своей кровью пол так, как это было в языческие времена. Вид серебряного дождя, просыпавшегося сверху, от залитых закатным заревом окон был столь странным, что братия с перепугу приняла кречета за падающего ангела и преисполнилась столь великого ужаса, что упала ниц без движения. Когда они пришли в себя, то подняв глаза к разбитому окну, были поражены тем кровавым светом, лившимся с небес. Пятна крови на полу казались следами, оставленными раненым небом. Все это столь сильно подавило их, что даже после того, как кровь была смыта, а осколки убраны и брошены вместе с птицей в пропасть, они не могли успокоиться и ходили подавленные случившимся. По монастырю поползли слухи, что все это случилось неспроста и предвещает нечто невиданное, может быть чуму и голод, а может даже пришествие Антихриста. С утра до ночи братия молилась, забыв про хозяйство и прочие мирские дела. Один отец-настоятель не потерял присутствия духа, казалось, происшедшее ничуть не коснулось его. Он уверял перепуганных монахов положиться на волю Божью и заняться необходимыми делами. Постепенно ему это удалось, как впрочем все к чему он прикладывал руки. Однако после этого случая все долго еще ходили, вздрагивая от малейшего звона.
Отец-настоятель пригласил из близлежащего городка стекольщика, чтобы он вставил новое стекло взамен разбитого странной птицей. Искать мастера пришлось довольно долго, поскольку слухи распространились и народ свято уверовал, что происшедшее было ничем иным, как предупреждением о грядущих бедствиях. В конце концов, перед нашим приходом, в монастырь прибыл стекольщик. Это был крепкий мужик, непьющий и знающий толк в своем деле. За свою жизнь он остеклил не один храм, но за эту работу запросил вдвое больше обычного. Делать было нечего и отец-настоятель согласился. Мужик привязал к спине подставку со стеклом и полез наверх. Работать ему пришлось очень высоко. Не каждая сосна дорастет до такой высоты, где был он. Он снял со спины подставку и приступил. Разбитое стекло было большим и некоторое время он скидывал оттуда осколки. Еще не до конца пришедшая в себя братия, наблюдавшая за ним, вздрагивала при падении каждого кусочка стекла.